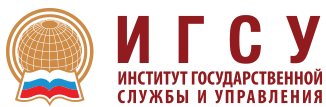В рамках Всемирного дня философии в ИГСУ РАНХиГС представляем – Ирина Устинова
Устинова Ирина Гавриловна
писатель, сценарист, драматург, заведующая отделом по работе с информационными ресурсами Научной библиотеки РАНХиГС
ДАЛЬШЕ
Все! Но при условии, что у меня сколько угодно времени,
только если иметь сколько угодно времени.
Морис Бланшо «Последний человек»
1.
Человеческая натура требует признания, признания, признания… желательно абсолютного, желательно от тех, кто для тебя в абсолюте. Она этого неосознанно искала, когда находила, все-таки каждый раз ошибалась. Еще один шаг дальше. Так она шла.
– Скажи честно, если бы была возможность, ты бы хотела вернуть его? – Ленка никогда не задавала таких конкретных вопросов, в первый раз.
От смущения Наталья залилась краской. Возможность?! Повисла телефонная пауза. Все эти годы, каждое утро начиналось с его звонка. В разговорах с подругами о нем, она всегда с легким сердцем вещала: «Любит, любит, любит…» Она не обременяла себя вопросом – верят ли ей?
– Хорошо… но чего он хочет? – Ленка продолжала.
– Воссоединения – Наталья опять удивилась, – он хочет только воссоединения.
Нормально! Ей не верят! Если Ленка, то и все. По крайней мере не подают вида, что она парит, оказывается, подруги относятся к ней снисходительно. Хорошие подруги!
– И что ты? – сегодня Ленку прорвало, устроила допрос.
Наташа ответила вяло, все-таки слово «возможность» ее придушило, ее обычный порыв «пообсуждать» потерял смысл: «Если я сдамся, мне конец, он меня просто скушает».
Да, она склонна к долгим разговорам по телефону, всегда в одной и той же позиции, – присев на край кухонного стола, ногами упираясь в батарею, локтями в колени, и за разговором созерцать панораму за окном, – парк, пруды, новый район, там дома выстроены в ряд…. Какими оранжевыми всполохами блестят сейчас их окна – это от заходящего солнца! А ведь еще так светло! Поэт бы сказал: «Бешеное солнце вперилось в окно!» Хорошая перспектива. Очень захотелось положить трубку.
– Ты же живешь с ним? – Ленке определенно что-то хотелось понять.
– Не живу, а встречаюсь – это совсем другое, у него как бы доступа ко мне нет.
– Встречаешься, значит что-то связывает, он же тебе нравится… любишь?
– Ты смешная, понятно, нравится, он же родной мне человек… не могу сказать, что близкий, но в альянсе…
– Понятно…. – протянула Ленка, не понимая, от чего вдруг Наталья сникла, – у нас завтра концерт, ты помнишь?
– Ну, да, – Наташа положила трубку. Тут же в голове закрутился, понесся раскадровываться вчерашний день. Говорил, что любит.
2.
На следующий день Глеб тоже позвонил.
– Ужас, сейчас Глеб звонил, жутким голосом сказал : «У меня несчастье». Жутким голосом …. Она попала в автокатастрофу.
– Жива? – рассусоливать Ленке не свойственно.
– Почти безнадежно
– Понятно. Будет что-то проясняться, позвони.
К вечеру Наталья выпала окончательно – на нее насела грусть, неимоверная грусть, как предвестник. Избавиться от грусти уже было не в ее силах. Грусть, как сухость степная начинала изматывать душу.
– Господи, как жалко ее, – Наталья с трудом говорила.
– Жуткая история… – Ленка явно была в растерянности – Ну, ты тоже даешь, так переживать!
– Передалось.
– Наташ, ты лучше подумай, что будешь делать, – Ленка всегда смотрела в корень.
– Я в отчаянии. Почему в моей жизни так происходит?
– Я знаю ответ, но обидишься… развелась, значит рвать надо было окончательно, – Ленка после откровенной выкладки замолчала, а потом осторожно спросила, – понятно, что теперь он точно тебя достанет.
– Лен, я не хочу, не хочу, я говорю абсолютно искренне, – Наташа расплакалась.
– Что будешь делать? – Ленка припирала, хотела сейчас вырвать решение, как признание, чтобы потом Наталья не могла отвертеться.
– Не знаю, буду как-то отбиваться. Скажу честно – встречаться хочу, могу, он мне нужен, жить вместе не могу, просто загнусь, так он на меся действует в больших дозах, нет, не смогу точно.
– Может так лучше?
– Лен, ты то хоть так не говори, – взмолилась Наталья.
– Хорошо, пусть время пройдет, не будем пока паниковать.
– Ну, да время покажет, концерт, естественно, накрылся, просто не в состоянии.
– Звони в любое время.
Все их бабские разговоры прекратились через две недели. Потому что накрывало круто. Какие соболезнования! Говорить уже было не о чем.
Глеб надрался вискаря в ресторане. Наталья в итоге с трудом дотащила его до номера. Он рухнул на кровать и отрубился.
Утром разбудил Наташу. Он сидел голый: «Врачи сказали, что Марина болела…» Наташа не могла выразить сочувствие, ее взгляд скорее выражал недоумение: «Опять? Что я могу тебе сказать? Не мучай меня!» Он подумал: «Не поняла». Он открыл бар, махнул маленькую водки и продолжил: «Сказали у нее был гепатит, этот, самый плохой.. Теперь делать вывод».
3.
Так разыгралась карта. Они сделали следующий ход. Бежали.
Поманило найти приют в деревне. Деревня, как белая печка – отогреет. Название хорошее – Гринево. Вокруг фактически степной пейзаж, можно более точно – бескрайние степи, превращенные в бескрайние федеральные поля, в горизонте совпадающие с небом, с плавающими облаками. Поля, засаженные культурами – хорошее слово – разделенные узкими на просвет полосками посадок – щемяще одинокими березами или упорно молчащими кипарисообразными тополями.
Соблазнились на сорок соток, крепкий дом и огромный яблоневый сад, который прежним хозяевам приносил дополнительный доход. Белый налив, апорт, мельба, штрифель – этих по одному дереву, видимо, для баловства, сад славился антоновкой разных сортов. Они приехали в урожайный год. Столько яблок Наташа никогда не видела.
Любопытно, что по периметру участка, метрах в десяти друг от друга, как на посту, торчали ветла, видимо, их часто обрезали, потому что стволы их превратились в пеньки метра в два вышиной – корявые, серые, толстенные и густо обросшие новыми молодыми длинными зелеными ветвями.. Плакучие ивы, трансформировались в пушистую цветную капусту.
Не деревня, а село, все-таки шестьсот дворов, оказалось не совсем дремучим . Но дело не в этом. Люди. А что люди? Люди любопытствовали. Запросто приходили знакомиться. В дом не заходили, отказывались, чего они там не видели, а во дворе за столом засиживались. Интересовал только один аспект – какого фига сюда принесло? В ответе чуяли подвох, кто же поверит, что в деревне захотелось пожить, ведь сроду в деревне не были, уклада не знают, огород, видимо, поднять не смогут, тогда зачем столько земли купили? Сыпались советы, на советы все горазды.
Дом достался с мебелью, шторами, карнизами, даже посудой, даже с припасами – мукой в мешочках, крупой, залежами банного мыла и брикетами свечей, упакованными в целлофан, плюс страшное количество пустых банок разного калибра, крышек с овощным и фруктовым рисунком. Да! На чердаке пять – пять! – раскладушек, – видимо, готовились со всей родней пересидеть в этом доме, если вдруг плохие времена… Но вдруг привалили солидные финансы, при новых обстоятельствах стала угнетать удаленность от столицы… Вот так и вижу, как они передвигают, захватывают руками толстый канат, перетягивают на себя, канат, похоже, с золотой нитью, потому что благородно поблескивает, в залитом солнцем пространстве… перехватывают, перехватывают, перехватывают… усилиями придвинули немаленький домик в хорошеньком местечке вблизи Москвы. А в домике в Гринево оставили все ранее приобретенное – мутотень деревенскую… Но! Смена взгляда на вещи… В общем в доме можно жить.
Да, они опять оказались вместе. Так их водили, как зигзагами на воде. Долго. Делали отвлекающие маневры, прибегали к уловкам, иногда увлекались, потому что водили с бешеной скоростью, возможно входя в восьмерку, чтобы запугать знаком бесконечности – все для того, чтобы замутить, притопить бдительность, а потом рвануть обстоятельством, толкнуть друг к другу, как клин забить. Чтобы еще побыть единой точной здесь и сейчас, в одном доме, единым образом фиксироваться. Что, теперь навсегда?
Лето жарило. Жарило. Ветру в этой местности нет преград, ветер выдувал чернозем в сухость до вида черепахи. Пару раз были невинные дожди, которые сразу же превратили землю в консистенцию сметаны – под ногами расплывалась и липла к обуви, проход в сапогах превращался в спецвылазку.
Они, как ни странно хорошо справлялись с хозяйством. Глеб увлекся, или дорвался до физики, в сущности он умел все – ему было не в лом откосить в день двадцать соток, а потом еще что-то пилить, разгребать. Глеб благоустраивал свою усадьбу, как он говорил. Но путеводной нитью были указания и пожелания Наташи, без ее ведома ничего не делалось.
Прежняя хозяйка дома правильно сообразила – весь кухонный ряд разместила вдоль стены с большим окном, любопытно, для деревни такой дизайн совершенно немыслим. Был прорыв. Респект ей за это. Потому что! Мееечтыыы сбываются! Готовить и смотреть в окно, классно! Вся деревенская жизнь, как на ладони. За которой Наташа невольно следила. За поляной, за оврагом, за шоссе, вдоль длинной череды заборов по проторенной дорожке, в определенный час начиналось движение – селяне потянулись с худыми сумками, – длинные тени впереди, цель – домик из побеленного кирпича, темная обитая дермантином дверь, – нараспах, что сигналит – магазин открыт. Обратно с полными сумками, тени позади. К обеду те же персонажи с ведрами потянутся к общему колодцу, чтобы натаскать воды в бочки для вечернего полива, свою воду берегут – лето. И так весь день по селу туда-сюда.
Наташа стояла у плиты, непрерывно помешивая манную кашу, а мимо открытого настежь окна время от времени проходил он, и каждый раз о ней не забывал – взглядывал и улыбался, немного смущенно что ли; иногда останавливался, так, ничего особенного не вещал – так, для соединения, для контакта. Наташе иногда казалось, что единственное дело его жизни с ней повязаться, обмотаться, вместе, как веревочной вокруг пучка спаржи. Накатила расслабленность в их перемирии. Они не были настороже.
Пересиживала паузы в готовке на красном кухонном диване, напротив было небольшое окно с рифленым стеклом. Тюль на окне ровно посередине украшали сквозные прорези в виде веточек. Иногда, когда складки ложились определенным образом, и солнце было с правильной стороны, свет преломленный рифленым узором и проникающий в прорези превращал листики-слезки в граненные хрусталики. Эта прелесть радовала, помогала обрести порядок. Рифленое стекло – нелепость, надо его поменять. Матовый тюль тоже. Матовый тюль – чудовищное изобретение, слишком приглушает свет, слишком отделяет in от out.
Из хорошего еще было чтение. Отрывалась долгим чтением. Как сладостно, упоительно – не торопиться. Упоительно. Точно, как в детстве, в зимние каникулы днем читаешь долго-предолго, за окном мороз; от тепла и уюта в комнате, наконец, приходит истома, которая потянет в сон, такой…. – только прикроешь глаза, он забирает тебя растекающейся сладостью, и совсем не нужно, да и совсем не хочется сопротивляться, спи хоть весь день… И засыпаешь, прижав к себе раскрытую книгу, еще во сне на нее подналяжешь… Потом просыпаешься вдруг, просто глаза сами открываются, – с чуть припухшими разгоревшимися щеками, влажными глазами – в невероятном равновесии, будто попала в точку покоя, и тишине, потому что в доме абсолютно одна; на улице уже стемнело, но еще не ночь, через открытую форточку доносятся звуки улицы, еще бодрые. Разгладишь затянувшиеся в гармошку верхние страницы книги, и опять читаешь долго, долго… пока есть не захочешь. Да! Полная воля! Она, наконец-то получила, что хотела, дорвалась до книг – не рвала на полпути свой интерес, а удовлетворяла его до самой капельки, – никто не мешал и не сбивал.
Иногда она вдруг видела больше – выпукло и дальше. Упоительно, словно очнулась. . Словно приходила в себя… Вот странное выражение. Откуда приходила? Из неведения? И куда? Как возвращалась? Или обретая себя? Да, неважно …Словно очнулась. Вещественный мир серьезнее располагался по местам, пропуская и ее на свое место. Она затихала, как хранила легкую смешливую тайну про себя, или как ялик на рейде в тихой гавани, со стороны могло казаться, что оцепенела в кресле. Нет, она наслаждалась, она получала благодатную передышку.
Еще приятная забава наблюдать внутри дома за солнечным потоком, который изо дня в день проделывал один и тот же маршрут, как маленькая схема круговорота – сначала настоявшись снаружи на стене, постепенно и неизбежно, поэтому безучастно и даже лениво, заползал в открытые окна, потом с подоконника на пол, протягиваясь желтыми дорожками, как рукавами от теплого пальто – настаивалось в комнате – потом опять протягивалось по другой стене, исчезало, чтобы явиться через другое окно… Ближайшая к окну яблоня тоже попадала и добавляла впечатлений – ее листья плотные и темные, как подводная трава, гладкие и глянцевые, с одной стороны, и дымчатые, шершавые, как лопух – с другой, оживлялись светом, и на некий срок получались на просвет. Старую яблоню, с раскидистой, как отяжелевшая женщина, кроной словно окунули в огромный чан, наполненный светом, а потом вынули и стряхнули, и она осталась в светлых кругличках, словно ей сделали живительную инъекцию.
К дому прилагался охренительный бонус! Озеро! Всего в двадцати метрах от дома, через насыпь. Особенный интерес к озеру был у детей и уток. Наташа делала заплывы утром и вечером. Она аккуратно опустилась на теплую поверхность, чтобы не задевать глубинные, холодные родники. Плыла, мягко раздвигая воду, чтобы лишь удерживаться на воде и напитываться водой; закрыла глаза, казалось, будто спала на воде. Блаженство. Потом развернулась… Блеск! Ослепительный блеск! Она зажмурилась. Потом через щелки глаз стала подсматривать – сумасшедшие искрящиеся бульки прыгали по поверхности – это заходящее солнце напослед ликовало, хохотало, потому что обладало знанием, что почти вечно будет уходить и возвращаться, и еще больше задевало озеро своим, набранным за день, настроением. Она тоже с улыбкой до ушей и разгоревшимися щеками купалась в алмазных россыпях. Вот так. Наталья, однако совсем не удивлялась, потому что всегда точно про эти затеи знала, она всей ладонью водила-малевала – золотым и лиловым… И совсем не обязательно было тут оказаться. Просто для подтверждения.
4.
К концу лета вдруг бывает такая вечерняя теплота, дающая умопомрачительную ласку и покой, будто природа всем дневным жаром оседает в тебя – для отдыха себе и тебе. Дает тебе возможность тоже поторжествовать своими потаенными, скрытыми потоками, гармонизирует.
Наташа с Глебом давно сидели на ступеньках дома, болтали, пили чай с пирогом, он, как всегда много курил. Сколько? Она не знает, казалось постоянно. Она не замечала, когда он докуривал сигарету, и когда брал другую.
Безветренно. Густая тишина в темноте. Вечер накрывал, как покровом. Уйти в дом было бы преступлением. Но еще и потому, что было еще нечто притягательное и очень временное к созерцанию, что украшало их сад в ночи, и ложилось удивительным и незабываемым впечатлением, – светящаяся антоновка. Луна в эти дни колдовала, и, видимо, у нее получалось. Яблоки и луна играли в отражение. Лунный свет имел исключительную заинтересованность в их белой, гладкой поверхности, а уже крупная, крепкая, но еще не совсем зрелая антоновка принимала его, будто для плодов это было благоприятным; чтобы его не расплескать, яблоки замерли до самых своих черных зернышек, сокрытых во внутренних тоненьких пластиночках. Блеск их был фарфоровым, мистическим, как вода у Гоголя при полной луне. Казалось, что светящиеся яблоки натыканы в крону.
Сидят на крыльце обычные деревенские муж и жена – так они выглядели со стороны. Вечер брал их в пространство – широкое, гостеприимно открытое, вольное. Покидать такую благодать – запретно! Принесли из дома одеяла, закутались, потом, когда уже слипались глаза, там же между крыльцом и дверью, в закутке дома, скрутились в калачики, жались друг к другу… И так добрались до утра. На другой стороне дома солнце уже давало жару.
Здорово! Здорово! Здорово! Ну, хватит! Была другая сторона их жизни. Засада была в другом. Капитальная. Глеб пил. Когда они были в режиме встреч, у него иногда тряслись руки. Балда! Она думала, что от волнения.
Так вот. Он пил. Возможно, был алкоголиком. Это было плохое открытие. Ну, да, – новый заплыв – на этот раз баттерфляем, а может и прыжки с вышки.
А первый – ведь дал много уроков. И главный, который имел правильный результат в виде развода – она, наконец, поняла, что очень, очень долго в нее валили родную, но чудовищно чуждую жизнь. Длительно, в ее хорошо наполненный сосуд доливали вещества вредного ей свойства, по горло, назахлеб; значит, надо было вытеснять что-то свое? А что? В ней лишнего ничего не было. Она жила в невыносимой мешанине, и главное, не успевала разобраться – потому что эмоциональный человек, эмоции перехлестывали, забирали силы. Эмоций было до фига. Значит тогда не добрала.
Так что же тогда наконец однажды произошло? Откуда однажды просочились ручейки прозрачности, всего лишь тонюсенькие струйки? Их чувствительная прохлада была обновляющей. Как же стало легко! Пришла ясность, не понимание, а именно ясность, которая давала продышаться, приносила облегчение, которая из себя же обновленной позволяла достать свежие силы. Откуда же это пришло, почему вдруг включилась способность разобраться в явлениях, разложить действия по полочкам, по мотивациям? Вдруг каждому его поступку определилось название – раз и навсегда, все расставилось по местам. Допускаю, что неокончательно. Но какой же она была дурой. Абсолютной дурой. Ведь так просто. Есть же счастливые люди, которые зрят в корень с молодости. Теперь она могла действовать. Наташа развелась.
Ее картинка мира не исказилась, как часто в браке бывает от сильного и постоянного воздействия другой половины, потому что она обладала хорошей силой сопротивляемости, на аккумуляцию которой безусловно нужна воля.
Еще раз получила Глеба с чудовищным сопровождением – дикими ссорами и оскорблениями. Считают, что в этом состоянии выбрасывается что-то с подсознания, конечно в нем много было накручено и прежде, но углубилось теперь, казалось, до крайности.
Нет, с поступками у него было нормально, дело было в его словесном самовыражении, да – вот, его слова – вот здесь были жуткие расхождения, способные другого довести до сумасшествия. Ни одного глупого или неверного слова, с роскошным русским языком, абсолютно точным, с тонкой шуткой, но часто с слишком витиеватой. Часто, когда он подбрасывал неприятные фразочки, некоторые недоумевали, потому что не ожидали подобной его смелости, и относили за счет случайности – вырвалось что-то по недоразумению .Ха! Он всегда был в полной осознанности. А в пьяном состоянии он упивался своим изощренным красноречием, убивал словом. Он был «мастером художественного слова», в чем она не сомневалась, и все-таки ее шибануло, когда в очередном порыве он сказа: «Я могу тебе такое сказать, что тебя кондратий хватит!». Да они продолжали ссориться. Жестоко. Эта новая жизнь – лишнее, отвлекающий маневр от генеральной линии к счастью
Она страдала? Ну, да! Страдания…. Непередаваемые! Бредовое, чудовищное состояние. Глеб с выпивоном и словом выходил на арену вечером. Потом следовали ночные страдания. Утром в душе сшибало голову. Прикладывались неимоверные усилия, чтобы выйти в жизнь следующего дня. Переваливала. А через пару-тройку дней – новая порция, покруче. Его организм не давал сбоя, завидная периодичность.
Они никогда не выясняли отношения, разговоры по душам – ни-ни, ни в коем случае, невыносимо для обоих такое вспоминать – она оставляла обиду в очень дальних районах, преодолевая дорого на таратайке, он стыд, но двигался скорее всего на мерсе. И начинали опять жить. Свойство возрождаться было присуще обоим.
Что-то не позволяло заниматься проблемой. Есть известные меры. Но у нее не было времени. Ей было жаль своего времени на это занятие. Глебу нужна была жертва, которая могла бы положить свою жизнь к его ногам в виде борьбы с его проблемой. Это – не она. Какие-то другие перспективы влекли ее.
Терпение! Жуткое слово. Она ненавидела это слово. Терпение ее доконало. Она не видела выхода. Казалось, уже не выбраться, сил не хватит. На этом поле боя она была одна, без прикрытия. Стратегии не было. Отчаяния тоже. Только адские страдания, – не возможно выдержать, но что-то ей давало силы … по силам, по силам, по силам…. Неужели ей дана стойкость и энергия на это?
Чтобы удержаться на плаву, ей необходимо было время от времени возвращаться в то упоительное состояние, когда она была в вольной жизни – до и после замужества, особенно до ….Сейчас, ударяя в этот камертон, задавался нужный лад. Это состоянии она научилась задерживать, старалась, как можно дольше. Для возврата ей нужно всего лишь уединение – всего лишь – ей не надо мешать – «Дайте отстояться! Даю слово, – я приду в себе, в ту точку, я знаю какую! Но я буду еще лучше».
Однажды дойдя до предела рева и отчаяния, закрыв глаза, и уходя уже в бессознательное состояние, она почувствовала, как извилины ее полушарий расправляются, мозг стал плоским, она реально это почувствовала. Жутко. Как начало конца. Но страх не успел распространиться – сон потянул Наташе приснился\ чудесный сон.
Сначала, она шля по гребню кручи навстречу парню татарской внешности, одетому в смокинг. Справа она увидела его мать, вроде бы будет свадьба, и мать довольна.
Потом она шла с мальчиком лет десяти по снежному полю, день пасмурный. Они дошли до деревянной пристани на реке, летом здесь купаются, а сейчас пристань обледенелая, крепкая. Вдруг что-то, какое-то огромное морское животное начинает пристань расшатывать, ломать, чтобы выбраться на поверхность. Она видела, как вздыбились огромные бревна. Это гигантский морской котик.
Она оказывается на его спине. Он мчит ее на огромной скорости по морю в яркий солнечный день. Она стоит на его огромной спине. Брызги, брызги, как фонтан! Восторг!
Впереди она видит песчаный берег, как пляж, на нем цветная детская площадка с горками. Она выходит на берег. С левой стороны хибара аборигенов на сваях с пальмовой крышей. Абориген ведет блондинку высокую очень стройную в красном платье к себе в этот дом. Это она. Это плохо. Она пленница. Но отчаяния нет. Будто ее даже это оскорбить не может. Ее не коснется.
Потом тут же на этом месте она держит маленького спеленутого ребенка. Ребенок очень легкий, невесомый. Ощущение вселенского добра.
5.
Опять поссорились. Сильно. Надо было на время свалить. Она уехала в Москву. Второй раз за все время.
Беременность дочери была ей у лицу. Как говорил один знакомый – бубуличка. Молодец. У них в роду все рано выходили замуж и рано рожали. Они перебирали новости. О важном дочь знала, но не представляла масштабности, и не нужно ей знать, лишняя для девушкиной натуры информация.
Наташа всего лишь обратила внимание, что пальцы ее правой руки сложены, как конверт, захлопнуты – что же это она! Как же! Она раскрыла ладонь и дала воздух… Воздух, воздух… Как нити от пальцев потянулись во все бесконечные стороны. Ха, ха! Вот, вот, вот… она нащупывала тон в воздухе… и почувствовала, как отпускает время. Улыбнулась. Не время ее забирало, а она сама отпускала время, – это очень просто. А она боялась! И хорошо, пришла готовность, – к чему только?
Наташа продолжала разговаривать с дочерью о чем-то незначительном. Улыбнулась.
– Ты что?
– Нет, ничего… – повела плечами, и это дочери еще рано знать.
На нее опустилась легкая грусть и ликование в то же время, она ощущала больший простор. Да можно идти без оглядки, намахивая руками, фигачить со страшной силой. Как только хочется.
Она вернулась в Гринево рано утром, ее ждал сюрприз – Глеб вслед за ней тоже уехал в Москву. Оказалась заложницей комедии положений. Без ключей. В этот дом так просто не пробраться. Позвонить? Нет. Не будем пока трясти пространство. А остаться ночью на улице? Посмотрим.
День пошел в такой последовательности: позагорала под яблоней, несколько раз обдалась из шланга холодной водой, поела огурцов, малины, уснула на качелях, набрала корзину смородины, ох не легкая это работа.
А главное, она пребывала в изумительном состоянии духа – ровным дыханием внутрь, и ровным дыханием обратно. Она еще продолжала что-то делать – то одно, то другое – с полным удовольствием… Она сидела на длинной скамейке, прислонившись спиной к сараю, как-то совсем притихла, как одна на всем свете, смотрела куда-то вдаль – вся зеленая панорама разместилась в ее фокусе. Блаженный покой, как цветочная солнечная лужайка, затаившаяся в лесу. Нет, ее не унесло, она здесь. Слышала, как зашумели ворота, въехала машина. Глеб.
6.
Теперь она ходила на источник два раза в день, завела такой порядок, в сущности в надежде встретить этого рыжего мужика. Но не чаще двух, держала себя в руках. А было желание днями стоять у дома и его ждать. Да. Бред.
Каждый раз проходя мимо его дома, что-то пыталась высмотреть. Потом все равно перед глазами стояла только голубая деревянная веранда – снизу до половины глухая, сверху из вереницы мелких квадратных окошек – типичное строение для русских деревень. Почему веранда? Видимо потому, что дом за ней прятался, протягиваясь в глубину участка, и с улицы его не рассмотреть, а любопытно. Вечно закрытая дверь веранды с навесным замком бесила. И в то же время трогательная, да, голубая… только зачем ему две ручки? Одна, ну, совсем, совсем простая – дугой, а другая, даже смешно сказать, – вентиль от крана, который обычно ставят в квартирах на водосточные трубы – ромашкой. Ромашка ей не давала покоя, как и его шикарные, прикольные усы.
Окна веранды вечно плотно завешаны тюлем. Зло берет! Перед домом всегда чистый двор, метет его что ли? Во дворе мальва красная и розовая. За калиткой сильно разросшиеся кусты сирени. Посмотреть бы на нее, когда цветет. Устроился – голубая веранда и сирень, может, белая?
На ее интерес стала приходить информация. Однажды в магазине перед Наташей в очереди стояла девушка с рыжими распущенными волосами.
– Люба, кто это такая красавица? – спросила тихонько у продавщицы.
– Это же дочь Серафима, – Люба ответила, как всегда, задорно.
– Какого Серафима? – что-то в сердце екнуло.
– Рыжего, на горе… около вас живет… На две недели приехала в гости.
– В Москве живет? – любопытство Наташу раздирало.
– Нет, из Пскова… Замуж за парня вышла из Пскова. Она учительствует. У них все учителя – бабка, мать покойница, Серафим тоже, математик, в Москве работал, а когда жена его умерла, от сердечного приступа, вернулся… он сейчас в полях работает. Ну, и она тоже учительница, только не помню по какому предмету.
Чего она собственно хотела? Ей хотелось приблизиться к нему. Просто обнять. Нет прижаться. Склонить голову к его плечу, у него плечи в веснушках, она уверена. Все…. Большего не хотелось. Но не потому что она не могла этого сделать ни с ним и ни с каким другим мужчиной, кроме Глеба, а не могла по состоянию, как невинная девушка, которая не представляет себе, как это может произойти.
7.
Она пришла к нему в самом конце лета, ранним утром. Ночная прохлада в это время уже более задерживалась, меняя палитру дня, добавляя с утра больше жемчуга.
Спонтанно и очень просто. Дверь была без замка. Дома! И сердце обмерло. Она прошла через калитку. Оставляя бутылки с водой около жухлых циний, наклонившись, на мгновение ощутила влажный запах земли. Задержалась перед дверью. Подумала: «А чего бояться?» Взялась за ручку, нерешительность все-таки дала паузу, и прохладная влажность металла осела в ладони, как легкий предварительный возбудитель, для раскачки… открыла дверь.
Они почти столкнулись, похоже, он ее видел и хотел выйти. Эта неожиданная близость, почти лицом к лицу сразу, не растеряла ее, а наоборот придала смелость и силу. Она с жаждой рассматривала его лицо, и не могла насытиться. Они обнялись.
Он поменял постельное белье. В открытом шкафу она увидела стопку чистого, отглаженного, аккуратно сложенного белья. Большая кровать, как ложе. Откуда катая? Сердце колотилось, но болезнь возвращала к действительности: «Я не могу, у меня гепатит». Он ответил: «Не думай об этом».
– Ты не понял, что я имею в виду? – Наташа уточняла, хотя вспыхнула безумной надеждой.
– Да, – и повторил, – не думай об этом.
Парадокс, уклад его дома был ей мил. Ничего не требовалось менять. Еще одно новое приобретение. В его отсутствие она ощущала себя полной хозяйкой, при нем, как только он переступал порог дома, на нее опускался полный мир, она сама же смеялась над этим, на уровне блаженства. Он передвигался по дому, что-то делал, и она могла наблюдать за ним бесконечно, смотрела на него и кайфовала неимоверно. Обхохотаться! Он вдруг оказался воплощением мужчины ее мечты, причем, что именно о таком мужчине она мечтала, стало понятным, имея его. Прежде она бы и не смогла описать, кого хочет в свою жизнь.
Она, как настроенный на свою волну человеческий приемник – получала, получала, получала, и все укладывалось где-то внутри, в потайном хранилище, она превратилась в перманентно раскрытый, такого хорошего размера, сундучок, весь в драгоценный каменьях. И для Серафима было ничего не жаль. Она с чистым сердцем говорила ему: «Люблю тебя» по нескольку раз в день, каждый раз, как подносила полную чашу, нет, кубок. Он достоин: «Пей!» То, чего всем жалко, ей хотелось, чтобы он наслушался сполна. И смотрела на него: «Вот это твое, получи!»
Они вместе собирали в саду за домом сизые сливы, с которых в руках, если обтереть, сходила дымка, как с запотевшего стекла, и они открывались изумительно фиолетово-синим. Наташа в первый раз в жизни увидела, как у сливовых деревьев, отягощенных урожаем, отламываются ветки от ствола, откалываются, поэтому все сливовые деревья были с подпорками – палками, воткнутыми в землю, по пять-шесть вокруг каждого дерева, на которых возлежали нагруженные ветви. Зрелище.
Вечером на веранде от наполненных до верху корзин разносился сливовый аромат. Наташа присела и лицом сунулась в этот запах, и вдыхала, вдыхала, вдыхала – коротко и часто, улыбалась до ушей, будто не могла набраться этого запаха, который сливался с запахом его дома, с ним.
Он сидел на табурете у стола. Она обернулась. Господи! Как он на нее смотрел, – спокойно и серьезно. Он любил. Это было ясно. Ничего не надо говорить.
И просто. Но такой глубинной простотой. Очень просто – они по какому-то провидению, которое не постичь, – понимали друг друга, понимали и принимали все как есть. Только так, так она всегда хотела: «Боже мой, какая я взрослая, и девочка тоже».
На следующий день он варил сливовое варенье, как-то совсем просто, по-своему. Оно получалось красным с острыми темными косточками, мякотью в прожилках, с свернувшимися с нее в тоненькие трубочки кожицами, кисло-сладкое. Потом он переливал варенье в банки, и в пятилитровую, смешно, это было очень по-мужски. Оказывается, он адски любил варенье.
И еще, если лежать на кровати, в зону видимости попадал флюгер, который улавливал малейшее движение воздуха, которое начинаешь именно его и наблюдая. Флюгер себе не принадлежал, он был подвластен внешним силам. Вот так. Он, наверное, был самодельным – на металлическом стержне, вставленном в деревянный столбик, было три ответвления на концах с металлическими плошечками, которые были приставлены прислушиваться к малейшим воздушным колебаниям, – затихали, усиливались, то в одну сторону, то возвращаясь, то закручиваясь, как волчок. Они вращались в умопомрачительно непредсказуемом ритме, как истончившаяся душа на грани нервного срыва. Флюгер завораживал.
Ничего особенного как будто не происходило. Просто жили вместе. Вдвоем. Рядом с ним она спала, как в люльке, убаюканная. Она вспоминала, что же самое первое Серафим сказал про нее? Неужели? Да, в первый раз он сказал про нее важное. Они пили чай в кровати, он принес чашки на подносе, и присел на край, он провел ладонью по ее согнутым ногам, – не ласкал, а дотронулся, вроде бы удивился: «Какая ты красивая … Я никогда таких женщин не видел. Всегда что-то не так, а ты ладная такая… создал же Бог».
Потом и всегда они много говорили, – говорили постоянно. Болтали. Как он говорил? Правильно. Она удивлялась изумительно правильной его речи. Серафим ее слушал, отвечал, но больше рассказывала она. Он перемещался на кухне, подливал кипятку в чашки, выходил в другую комнату, возвращался, мыл посуду, и одновременно совершенно присутствовал, – он ее всегда слышал, слушал и понимал. Она присутствовала в мире в присутствии его понимания, в его реальном присутствии она успевала выговориться по полной, хотя только вечер был их совместным временем. Сказать, что говорила для собственного наслаждения – нет, для наслаждения слишком естественно, они взаимодействовали. Они не рассказывали своих жизней, а болтали о впечатлениях, соизмерялись, соотносились, казалось, выстраивалось понимание самого важного на свете. Для них. И будто конца этому не было. Ей казалось, что она не наговорится никогда. И вообще, после их встречи, казалось все задвигалось. Время крутилось мощнее и быстрее. Фантастичнее.
Да, тогда, когда она ушла из дома, Глеб ее не искал. Серафим к нему ходил.
Глеб был дома, но не открыл дверь. Он стоял у окна и пристально смотрел на Серафима.
– Наташа у меня, – произнес Серафим.
Глеб его понял, и ничего не ответил.
Наталья думала, что Глеб напьется, придет к ним и разразится грандиозный скандал. Однако, тема вырулила совершенно неожиданным образом. На следующий день с утра Глеб поджег сарай-развалюху, который стоял в дальнем углу участка. В общем это было неопасно, но акция впечатлила, особенно деревенских, которые собрались запечатлеть зрелище. Сарай полыхал долго и выгорел дотла. На следующий день Глеб уехал с концами. Опять отметила: «Я его совершенно не знаю».
Серафиму пришлось присматривать за домом, к чему он относился достаточно спокойно. В дом приходили только за вещами. Жить там не хотелось, хотя, конечно, там было бы более комфортно. Наташа стала подумывать о продаже .Это место для нее было убито. Все-равно в доме не жить, а деньги, может придется во что-то вложить.
8.
На Новый год Серафим подарил Наташе лыжи, а она ему свою любимую картину, которую всюду за собой таскала, и которую она всегда размещала так, чтобы утром, проснувшись, увидеть ее освещенной – небольшая с розовыми и белыми пионами, влажность которых и их пышную мягкость она ощущала, как щупала природу, – задавалась тональность дня. В первые дни картина гуляла за ними по всему дому, чтобы быть постоянно в поле зрения. Здоровому мужику подарок был мил.
В Новогодние каникулы ложились поздно, – читали, смотрели фильмы. Наташа притащила из дома коробку со своими любимыми фильмами. Третьего вечером вошли в позорный режим – смотрели фильмы один за другим. В первую очередь пошли комедии. Наташа в сотый раз хохотала до слез. Для Серафима это ее веселье было открытием. Как иногда говорят – их отношения вошли в новую фазу. Каждый раз к ночи накатывала новая энергия. Постепенно добрались до четырех утра, а потом спали до двух – до трех дня. Они спали, как сурки, убойным сном. Она готовила обед, а он выходил расчистить дорогу до калитки.
Надо было кончать с этим безобразием, на переменить тему. Где-то в часа четыре, решила наконец-то – пора обновить лыжи. На улице Серафим присел перед ней захлопнуть крепления, как мальчишка, ухаживающий за школьной подругой. Погладил ее новенькие красные ботинки. Точно, смотрит, как мальчишка. Счастье. Она выкатила за дом и ее сразу обдало ветром – сухим и ледяным – одиноким. Ого, оказывается, сурово! И поздновато! Наташа подумала: «Куда поплелась?»
Она сделала несколько рывков и остановилась, зачарованная открывшимся видом – внизу зияли два озерных пространства; ветер, который гудел сегодня весь день раздул снег, и совершенно очистил и отполировал лед, превратив озера в бездонные и мистические. Двое катавшихся резали лед лезвиями коньков, оставляя белые разводы, будто творили гравюру с букетами роз. От этого зрелища невозможно оторваться. Еще казалось, если встать на лед, то увидишь рыбную подводную жизнь – закупоренную, а потому тихую, уютную и одновременно теплую. Делала несколько бросков и опять останавливалась, будто только за этим и вышла из дома, будто именно эта радость сегодня для нее была заготовлена. Но это не конечный же пункт? А что еще? Была одна задумка, которую давно вынашивала и которая не давала покоя. Глеб сдернул ее на полном ходу. Ей хотелось вернуться к теме, ведь все было готово к завершению проекта, осталось только сказать да.
9.
В марте Серафим на неделю ездил в районный центр на курсы повышения квалификации. Бродя по городу увидел «Инвитро» и сделал анализ.
– И что? – Наталья обомлела, они к этой теме не возвращались.
– Ничего.
– Здоров?
– Да.
– Так может быть?
– Я поинтересовался, не может.
– Обманул?
Сгоняли в город. Да! Глеб дает! Вот почему он не выяснял отношения. Он сделал чудовищный шаг – и напрасно! Резерв был исчерпан.
– Ты же сдавала анализы?
– Да, вместе сдавали. Мне в голову не могло прийти.
– А таблетки, ты пьешь?
Она попалась.
Элегантность. Не хватало элегантности. В деревню убегать нельзя. Дает здоровье, но обессиливает сознание. Надолго притупляет обоняние. Тесно! Натура заинтересована нахвататься впечатлений, которые будут будоражить, перепахивать борозды, все знают какие, все для подготовки своего уникального всплеска, – точно так, как мы идем на концерт определенного композитора, музыка которого, его звуковой ряд определенно поспособствует всколыхнуться и нашему звучанию.
Так однажды место ее пребывания окатило ее чудовищной своей бедностью Как неинтересно просто. Просто свалилось. Она бы этого не хотела. На ее внутренних весах убогость потянула вниз, а очарование облегчалось с удивительной скоростью. Дурацкое мучительное состояние, от которого, она знала, теперь не избавиться, теперь самое правильное, научиться не бороться, а понять, что же делать?
– Уехать, – Серафим засмеялся, не улыбнулся, а засмеялся, – в Москву? Нет, это уже было, я стал деревенским.
Вот именно эти слова она ожидала услышать.
– А я?
Он не ответил, потому что всегда знал наверняка, что рано или поздно она будет рваться отсюда. Наташа тоже знала наверняка, что Серафим уговаривать не будет. Он отпустит.
Серафим стоял, прислонившись к дверному косяку веранды. Прошла соседка с пустым ведром. Поздоровалась. Он ответил, как обычно. Господи! Почему так просто! Ведь на разрыв! Ведь лучше, чем с ним не будет никогда, это она знала точно, потому что так бывает только раз в жизни, как дар.
Серафим смотрел на нее почерневшими глазами. На нем была серая с нелепым рисунком майка и нелепые широкие штаны, его ничего не портило, в нем было природное недюжинное здоровье и сила. Ему пора было уходить, он приезжал пообедать. Она сидела за неприбранным столом.
– Счастливая ты, Наташ, – будто всегда хотел это сказать, и вот сейчас довелось.
– Я? – она обомлела, никто никогда про нее так не говорил, и как будто не считал, и она тоже никогда. Она растерялась, не могла сообразить, как возразить, – я всегда страдаю, мучаюсь.
– Ты счастливый человек, – Серафим говорил спокойно, уверенно, как знал точно.
10.
Однажды утром она проснулась абсолютно счастливой . Она почувствовала счастье еще во сне, раньше, чем открыла глаза. Чтобы еще, еще, еще удерживать эту высоту, не надо открывать глаза Она попала в паз между сном и явью, и замерла там, чтобы удержать эту сумасшедшую грань, на которой она осознано балансировала между микроколебаниями. Она лежала на спине не шелохнувшись, затаившись, она дышала вместе со своим счастьем одним ритмом – совсем, совсем внутри, и вместе с ним аккуратно не вслух попросила – только звуков не надо…Совершенная тишина держалась.
Готовила Серафиму обед, и все удивлялась: «Какое утро. Никто не мешал». Счастье… Наталья ощущала необыкновенную свою стройность, от пальцев ног до самой макушки, в хорошей форме, как гончая. Еще в мае ей позвонили по новому проекту, она знала наверняка, что получится, очень хотелось его осуществить. Ей хотелось действия.
Она написала письмо: «Сегодня во сне я испытала абсолютное счастье… Я пока не знаю, сколько мне нужно времени. Серафим, милый, родной, дорогой! Прости меня! Люблю бесконечно! Я вернусь.». Она могла так поступить, потому что они были равны по силе.
Она долго сидела за столом, потом что-то делала по дому, мыла полы… Успокоилась. И написала еще одно письмо: «Серафим! Мой единственный! Ты понял про меня что-то самое главное, ценное. Ты светлым облаком лежишь в моем сердце. Как я благодарна тебе!».
Ее выбрасывало, как скитальцев, неведомо куда. Уходила, ее влекло, ей оттуда с полным приятием протягивали руки, а она, свои навстречу с такой же полной радостью. Ею руководило движение. Неотвратимая необходимость идти. Шаг – вперед, за ним дальше – шаг вперед… Она шла с огромным багажом, который вот только стала нести с легкостью, который независимо от ее желания превратился в совершенную легкость, потому что она уже пошла сквозь, и сквозь груз тоже. Как ей везет …
Она совсем потеряла ощущение места. И вместе с этим страх.