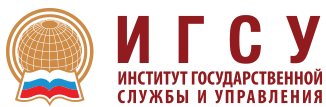Интервью с Альбиной Нугаевой: «Отсутствие государственной религиозной политики в ее формально-юридическом выражении приводит к появлению противоречащих Основному закону документов и практик»
«Отсутствие государственной религиозной политики в ее формально-юридическом выражении приводит к появлению противоречащих Основному закону документов и практик» – интервью с Альбиной Нугаевой провел профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Вильям Шмидт.

Альбина Игоревна Нугаева
Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления информационной и экономической безопасности инвестиционной компании «Лидер», студент магистерской программы «Система государственного и муниципального управления» ИГСУ РАНХиГС.
Уважаемая Альбина Игоревна, благодарю за эту возможность обменяться мнениями по актуальным проблемам и поговорить о роли религии, религиозном факторе – какие из вызовов окажутся для нас, российского и европейского обществ и в целом, в мире, базовыми, а какие второстепенными и незначительными, что будет первостепенным для религиозной сферы в жизни общества, а что для религиоведения.
Наш разговор начинался во время Всемирной недели гармоничных межрелигиозных отношений, а скоро мы будем отмечать Международный день культуры. (Отрадно, что и мы, в Российской Федерации, все активнее входим в это международное пространство диалога, проявляя солидарность с силами доброй воли.) Но сегодня у нас на повестке Международный женский день – 8 Марта.
Мне приятно, уважаемая Альбина Игоревна, в Вашем лице поздравить всех наших коллег-женщин, наших студенток, наших матерей и сестер с этим праздником, который связан не только с борьбой за свободы, но шире – весной – обновлением мира…
И прежде, чем обсудить наши главные вопросы, хотелось бы услышать Ваше мнение-комментарий – а что лично для Вас как представителя женской половины человечества значит (означает) этот день / праздник? (Я, например, обратил внимание на 2 события последнего дня – краткий опрос, связанный с восприятием женщины, а также на акцию у стен Кремля – в стиле «отдайте управление миром женщине»).
А.Н.: Прежде всего, разрешите высказать слова признательности кафедре государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС за возможность поучаствовать в подобном диалоге.
Вышеупомянутые события в контексте празднования Международного женского дня – 8 Марта свидетельствуют, на мой взгляд, о следующем: соглашаясь с тем, что место женщины не только у плиты, люди все еще продолжают требовать от нее соответствовать теперь уже двум ролям – ответственной за воспитание детей матери и карьеристки.
Вместе с тем, в настоящее время общество остро нуждается в создании комплекса социально-экономических гарантий для женщин с целью реализации их самой главной роли – матери. Давайте не будем забывать, что любые девиации в обществе – результат нашего воспитания: мы сами воспитываем преступников, как бы ужасно это не звучало.
Похоже, государство уже сделало шаг, утвердив именно 8 марта распоряжением Правительства Российской Федерации № 410-р Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, в которой определены основные направления государственной политики в отношении женщин и которая нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины, создании равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с положениями Конституции, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации. (Однако, всё как всегда упирается в отсутствие четкого механизма реализации…)
В.Ш.: Надо же – у нас появилась «женская» стратегия – я не знал; очень любопытно!
Альбина Игоревна, в последнее время, с учетом особой черты нашего народа – его эсхатологических акцентуаций, можно услышать много различных обеспокоенностей и даже толков в связи со 100-летием Социалистической революции. Мы уже более 25 лет живем в новой формационной реальности, но наш уклад жизни, наши установки мало изменились – наша социальность при всей ее технологизации и качественном росте скатывается в воспроизводство «совкового гражданина» и вульгарной феодализации. Как Вы полагаете, мы имеем более-менее четкое представление о том, в каких условиях, в какой реальности мы – российское общество – находимся и каким понятийно-категориальным аппаратом оперируем, чтобы это адекватно понять? Что это такое российское общество/государство в его само-ощущении/-идентификации, политико-правовой декларации и каковы его базовые параметры и характеристики?
А.Н.: За довольно непродолжительный, в контексте исторического процесса, период времени российское общество, несмотря на специфику своих национально-культурного колорита и ментальности, побывало в нескольких формационных «крайностях», каждый раз отрицая «взрощенные» идеологические представления и ценности. Это неизбежно привело к появлению «пограничного» восприятия действительности – кризису во всех сферах управления и, как следствие – формированию социально уязвимых слоев населения, которые как и прежде, могут стать орудием следующих перемен… Огромный социальный разрыв в обществе во все времена являлся бомбой замедленного действия, да и о каких ценностях и гражданских позициях может идти речь в условиях выживания… Идея построения гражданского общества в условиях отсутствия четкой государственной политики, к сожалению, носит исключительно декларативный характер.
В.Ш.: Уважаемая Альбина Игоревна,, в контексте означенных проблем, обращает на себя внимание роль профессиональных сообществ. Как Вы полагаете, в этих процессах какие главные и частные задачи стоят или могут стоять перед ними как в масштабе страны, так и в региональном разрезе?
А.Н.: Для ответа на этот вопрос достаточно ознакомиться хотя бы с Основами социальной концепции Русской Православной Церкви – официальный документ Русской Православной Церкви, утверждённый на Архиерейском соборе 2000 г.: «… излагает базовые положения её [Церкви] учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. Документ также отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом. Помимо этого, он устанавливает ряд руководящих принципов, применяемых в данной области епископатом, клиром и мирянами… Характер документа определяется его обращенностью к нуждам Полноты Русской Православной Церкви в течение длительного исторического периода на канонической территории Московского Патриархата и за пределами таковой. Поэтому основным его предметом являются фундаментальные богословские и церковно-социальные вопросы, а также те стороны жизни государств и обществ, которые были и остаются одинаково актуальными для всей церковной Полноты в конце XX века и в ближайшем будущем».
Так что отсутствие, например, государственной религиозной политики в ее формально-юридическом выражении приводит к распространению противоречащих Основному закону подобного рода документов, провозглашающих превальвацию института Церкви в сфере свободы совести, этноцентризм, создающих благоприятные условия для асоциализации иных религий в обществе.
И ведь так можно сказать практически о каждой сфере жизни нашего общества. Но, с другой стороны, – это естественный процесс гражданско-политического строительства – всего и сразу не бывает, мы ведь не в Раю живем…
В.Ш.: Если позволите, хотел бы затронуть деликатную проблему – поговорить о религиозно-философских, мировоззренческих аспектах нашей жизни – что есть «религия». Очевидно, что религия, религиозное мировоззрение в широком смысле – это один из уровней мышления (сознания) наряду с мифологическим (эклектичным) и сциентистским, а о ней, о религии как феномене, рассуждают как о субстанциональном… Но есть ли на деле то, что лежит в основе того, что мы именуем религией, и даже институциализировали?
А.Н.: Процесс познания неразрывно исторически связан, обусловлен филогенезом и социальным контекстом: индивидуальное познание, мифологическое и религиозное, а затем научное познание неотделимы друг от друга – они одновременно вписаны в культуру и являются её составляющей. Человек с раннего возраста усваивает пространственные структуры, а с тем и модифицирует их. Даже будучи взрослыми, мы пользуемся мифами и догмами как средствами, с помощью которых погружаемся в неизвестное, изучаем окружающий мир, придумывая регулярности или правила и закономерности – пытаемся прояснить и постичь существующие реальности. При этом все наши представления – от примитивных мифов и до научных теорий – выступают артефактами. Но несмотря на то, что мы не можем обойтись без этих представлений, со временем мы начинаем их критиковать. Критика мифов лежит в основе религии, а критика мифологического и религиозного сознания – в основе научного мышления. К тому же само критическое мышление не может существовать без догматического. В любом случае мы должны иметь объект для критики, и мы его находим именно в поле догматического мышления.
Что же в отношении религии, то определяю её как отношение человека к сверхчеловеческим, сверхестественным, потусторонним силам, оказывающим прямое или опосредованное влияние на формирование человека и регулирующее его поведение (отношение к миру) на основе специфических чувств, убеждений, санкций и т.п., а также как к фактору. определяющему жизнедеятельность посредством ценностного противопоставления священного и греховного. Если кратко, религия – это то, что основано на вере – категории, отражающей непосредственный и целостный акт свободного принятия человеком трансцендентного, определенной системы ценностей, ориентированной на идеальное преображение жизни.
В.Ш.: Ух ты – спасибо, Альбина! (Можно полагать, что наши учебные штудии не прошли даром.) А как Вы полагаете, почему Российское Государство, довольно щепетильно относясь к регулированию и регламентированию всех и всяких отношений в каждой из сфер жизнедеятельности, за 25 лет новейшей истории имеет лишь один ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» – можно даже сказать, что категорически отказывается иметь государственную политику в сфере общественно-религиозных отношений.
А.Н.: Религиозное пространство современной России представляет собой достаточно пеструю и структурно сложную картину, что является результатом многовекового становления именно как многонационального государства. Участниками межрелигиозных отношений на низовом уровне выступают рядовые верующие, на среднем – духовенство (религиозные служители), а также религиозный актив из мирян, на высшем – духовно-административные органы управления религиозных организаций и их ответственные представители. Очевидно, что с точки зрения интересов общества, его политической стабильности, наиболее существенным является то, насколько конструктивно решаются вопросы взаимодействия, сотрудничества религиозных объединений во внерелигиозной, социальной сфере, а также их отношений с государством.
На характер реально складывающихся межрелигиозных и межконфессиональных отношений, как известно, влияют историческая память, т.е. прошлый опыт их отношений, гармоничность, конкуренция или конфликт их интересов, собственно вероисповедная политика государства, да и стремление политических партий разыграть «религиозную карту» для достижения своих целей тоже играют не последнюю роль. Вы же ведь сами об этом писали на с. 11 в пособии для госслужащих «Религии России».
Характер законотворческого процесса показывает неизменность стратегии, направленной на законодательное закрепление контроля мировоззренческой сферы и построение «вероисповедного модуля» вертикали власти. При этом также сохраняется приоритет религиозной политики относительно прав и свобод человека.
В современной России наибольшее распространение имеет диалог-сотрудничество, или секулярный диалог, видящий основную задачу межрелигиозных встреч в сотрудничестве ради всеобщего блага – в решении экологических проблем, утверждении социальной справедливости, моральных ценностей, мира и свободы, что также может вести к лучшему взаимопониманию участников. В таком типе диалога обсуждение вероучительных, доктринальных систем и связанных с этим проблем отходит на второй план или вовсе выносится за скобки. При рассмотрении субъектов и пространства межрелигиозных отношений методологически полезно различать уровни, существенно влияющие на характер диалога: простые верующие и религиозные общины, духовенство, ученые и эксперты, духовно-административные органы управления религиозных организаций. Диалог реализуется главным образом на уровне религиозных организаций и духовных лидеров, собранных в рамках межрелигиозных объединений, тогда как диалог на уровне рядовых верующих здесь развит меньше, чем на Западе.
На наш взгляд, важнейшая теоретическая проблема – неопределенность содержания самого понятия «государственно-религиозные отношения», в частности, осознание специфики проявлений указанных отношений и их динамики, обусловливающей поиск и использование на практике направлений и способов осуществления диалога и конструктивного сотрудничества всех субъектов названных отношений. Решение обозначенных практических проблем должно опираться на выявление и решение теоретических, среди которых наиболее важные – выявление сущности как самих государственно-религиозных отношений, так и их институциональных регуляторов.
Налицо проблемы и противоречия в системе государственно-религиозных отношений. Так, государство и религиозные организации, сохраняющие и развивающие в своей деятельности исторические и духовные традиции народов Российской Федерации, зачастую оказываются отделенными не столько друг от друга, сколько от общества, от непосредственной вероисповедной жизни. Состояние дел в государственно-религиозной сфере регулируется системой «политико-идеологических коньюнктур» – приватных договоренностей и закрытых двусторонних соглашений, зачастую вступающих в противоречие с декларируемыми принципами свободы вероисповедания и другими концептуальными положениями российского законодательства, как на то указывает проф. В.Е. Зарайченко (Культура и государственная служба: учебно-справочное пособие. Ростов на Дону, 2003. С. 67).
Все более заметной становится тенденция роста неудовлетворенности общества тем, как со стороны властных структур обеспечиваются и соблюдаются религиозные свободы граждан и законные интересы религиозных объединений. Впервые в современной российской истории стал очевидным диссонанс в оценках ситуации с правами человека в области мировоззренческих свобод между органами государственной власти и гражданским обществом. Если первые расценивают ее исключительно позитивно, то второе настроено более сдержанно, высказывая недовольство и сомнения в отношении общего курса светского государства в сфере свободы совести. Так, само государство, по меньшей мере некоторые его органы и представители, кажется, подустали в поисках форм и средств демократического подхода к «религиозному вопросу», что, естественно, сопровождается трудностями, требует постоянного внимания к духовному самочувствию различных мировоззренческих групп граждан.
Уже трудно не замечать, что общество вновь втягивают в бесплодные мировоззренческие споры с целью выделить основные, т.е. приемлемые для государства и общества, так называемые традиционные религиозные организации и их «интересы и цели» сделать официально поддерживаемыми в ущерб многим остальным конфессиям, церквам, деноминациям. Всё это не согласуется с российской Конституцией, провозглашающей равенство граждан независимо от их отношения к религии, равенство всех религиозных объединений между собой и перед законом, светскость государства, «отделение» религиозных объединений от государства в качестве важнейшего принципа, на котором строятся отношения государства со всеми религиозными объединениями. Так что мы оказались в условиях, когда исподволь сформировались реальные предпосылки к расколу общества по мировоззренческому принципу, по принадлежности к той или иной конфессии, что неизбежно приведет к напряжению и в иных сферах – национальных и межнациональных отношений, этноконфессиональных и межконфессиональных отношениях, культурной, социальной.
На развитие государственно-религиозных отношений также влияют следующие негативные факторы: недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества; распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых вероисповеданий; недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации; влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного терроризма и религиозного экстремизма, международная организованная преступность.
Преодоление вышеуказанных факторов и проблем связано с возникновением новых задач и приоритетных направлений в сфере государственно-религиозных отношений в Российской Федерации, «решать» которые должна государственная религиозная политика, целями которой являются: создание благоприятных условий для позитивного развития религиозной жизни в стране и укрепления стабильности российского общества; обеспечение фундаментальных, международно-признанных прав граждан на свободу совести и вероисповедания, а также на сохранение и развитие исторически сформировавшихся религиозных традиций народов России; исключение превальвации в сфере свободы совести политико-идеологических предубеждений и этноцентризма; обеспечение диалога религиоведческо-теологическим инструментарием на принципах взаимного уважения и согласия во всех его видах; содействие укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.
Среди основных задач формально-юридического определения государственной религиозной политики в Российской Федерации – создание условий для социализации религии в условиях консолидации общества при широком и конструктивном участии в этом процессе религиозных объединений и верующих граждан, направленных на создание условий для вовлечения религиозных сообществ и верующих граждан в построение гражданского общества; изучение функционирования религии в обществе, развитие религиозных систем, национальных культур и этнополитики в регионально-субрегиональном разрезе и в аспектах межинституционального взаимодействия; ведение диалога на «теологическом» уровне между широким спектром государственных институтов и многообразными формами присутствия религии на территории России на принципах взаимного уважения и согласия во всех его видах; совершенствование и разработка «недискриминационного» законодательства в области реализации свободы вероисповедания; осуществление социального партнерства всех субъектов государственно-религиозных отношений.
В.Ш.: Уважаемая Альбина Игоревна, я позволю себе дерзость – предложу нашим читателям опыт Вашего проектирования модели «Стратегии государственно-религиозных отношений», который состоялся в рамках нашего учебного курса, поскольку он показался мне весьма интересным; а в продолжение разговора, если позволите, небольшое уточнение.
Первое: как Вы думаете, любая ли деятельность человека представляет собой творческий акт, если учесть, что как субъект, так и объект отношений после взаимодействия становятся хоть на немного, но все же иными, чем были до него. Можем ли мы считать себя творцами жизни – что для этого нужно, каким должен быть человек?
И второе: на чем покоится различение и в чем смысл идентификации(й)?
А.Н.: Бытие сотворенных человеком вещей в значительной мере соотносится с бытием самого человека, поскольку созданная им «вторая природа» служит, в первую очередь, для удовлетворения его разнообразных потребностей. Отсюда бытие многих предметов «второй природы» столь же недолговечно, как и бытие самих людей. Имея общую основу (инертное, косное вещество, зависимость от объективных законов и т.п.), и «первая», и «вторая» природы обнаруживают свое единство и взаимосвязь. Вместе с тем, в отличие от вещей и явлений, составляющих естественный мир, который в масштабе человеческих представлений беспредельно многообразен, необозрим, бесконечен в пространстве и времени, а также неуничтожим по существу, мир вещей и явлений, созданных человеком, пространственно и количественно ограничен и, в принципе, конечен – уничтожим.
Смысл идентификаций в результатах, продуктах творческого труда; ему может быть дана процессуальная характеристика, как особого качества деятельности; ответ же на вопрос о природе творчества следует искать в нашем психологическом строе, способностях, мировоззрении, нравственных установках творцов.
В.Ш.: Уважаемая Альбина Игоревна, спасибо; и в завершение нашего разговора небольшая просьба, связанная с Международным днем философии, Всемирным днем религии и теперь приближающимся Международным днем культуры. (В библиотеке РАНХиГС в свое время мы устроили собеседование у так называемого «философского камня», а по его окончании один из наших студентов, как это водится у молодых и жаждущих открытия полноты то ли бытия, то ли Истины, представил 10 вопросов с просьбой ответить на них).
Будем рады, Вашему рассуждению – ответам в формате блиц:
- Какова природа Вселенной?
А.Н.: Вселенная есть проявление электромагнитного поля, фундаментальными свойствами которого становятся пространство, время, движение и материя.
- Есть ли какое-то Высшее Существо?
А.Н.: В моем представлении это некая концентрация энергий (абсолютная субстанция).
- Каково место человека во Вселенной?
А.Н.: Человек – «инструмент» познания Вселенной.
- Что такое реальность?
А.Н.: …все сущее…
- Что определяет судьбу каждого человека?
А.Н.: Отвечу цитатой из В. Розова: «В госпитале я лежал загипсованный по грудь почти полгода на спине, но когда прошли нестерпимые боли, был веселый. Сестры спрашивали: «Розов, что ты такой веселый?» А я отвечал: «А что? Это нога болит, а я-то здоровый». Дух мой был здоров. Счастье кроется именно в гармонии личности, раньше говорили: «Царствие Божие внутри нас». Гармоническое устройство этого «царства» во многом зависит от самой личности, хотя, повторяю, внешние условия существования человека играют важную роль в его формировании. Но не самую важную. При всех призывах бороться с недостатками нашей жизни, которых накопилось с избытком, я все же прежде всего выделю борьбу с самим собой. Нельзя ждать, что кто-то придет со стороны и сделает тебе хорошую жизнь. Надо вступать в битву за «честного малого» в себе, иначе – беда…».
- Что такое добро и зло?
А.Н.: Добро – это 1) особого рода ценность, не касающаяся природных или стихийных событий или явлений; характеризует действия, совершенные свободно, ради них самих; 2) поступки, сознательно соотнесенные с высшими ценностями, идеалом.
Добро заключается в преодолении обособленности, разобщенности, отчуждения между людьми, утверждении взаимопонимания, морального равенства, и гуманности в отношениях между ними. Добро характеризует действия человека с точки зрения его духовного возвышения и нравственного совершенствования.
Зло – это противоположность добра, основополагающая универсалия этики; противоречащая принятым в данной культуре нормам морали деятельность (в конечном счете – идеалу) – деятельность, которая имеет негативное значение для состояния других людей или самого действующего объекта: причиняет материальный или духовный ущерб, вызывает страдания и сходные негативные чувства, ведет к деградации личности. Понятие морального зла определяет то, чему противодействует мораль, что она стремиться устранить и исправить – чувства, взгляды, намерения, поступки, качества, характеры.
- Почему наша жизнь такая, какая она есть?
А.Н.: Потому что мы ее строим такой какой хотим видеть и довольствуемся результатом своего труда.
- Каковы идеальные отношения между личностью и государством?
А.Н.: Легитимная государственная власть и суверенитет передающего последней на определенных условиях свои права носителя государственной власти (народа) при абсолютной ценности человеческой суверенности как такой формы самополагания, которая принципиально открыта полифоничной множественности окружающего мира.
- Что такое любовь?
А.Н.: В самом общем смысле – отношение к кому- или к чему-либо как безусловно ценному, объединение и соединенность с кем (чем) воспринимается как благо. В более узком смысле любовь (если не принимать во внимание эмоциональные состояния, связанные со страстью к различным вещам, состояниям – сладострастие, сребролюбие, властолюбие и т.д.) – это отношение к другой личности, которая воспринимается как сомоценность.
По-другому можно и так сказать – наилучшее проявление высшей формы сознания.
- Что происходит после смерти?
А.Н.: Иная форма существования нематериального начала (энергетической субстанции). Отношение к смерти, на мой взгляд, во многом определяют формы религиозных культов…
В.Ш.: Уважаемая Альбина Игоревна, благодарю Вас за этот увлекательный разговор. Прошу принять наши благопожелания – крепости, вдохновений, изобилующей красками жизни.
А.Н.: Благодарю и Вас, уважаемый Вильям Владимирович, за оказанную честь поучаствовать в этом большом Вашем проекте – экспертной дискуссии.