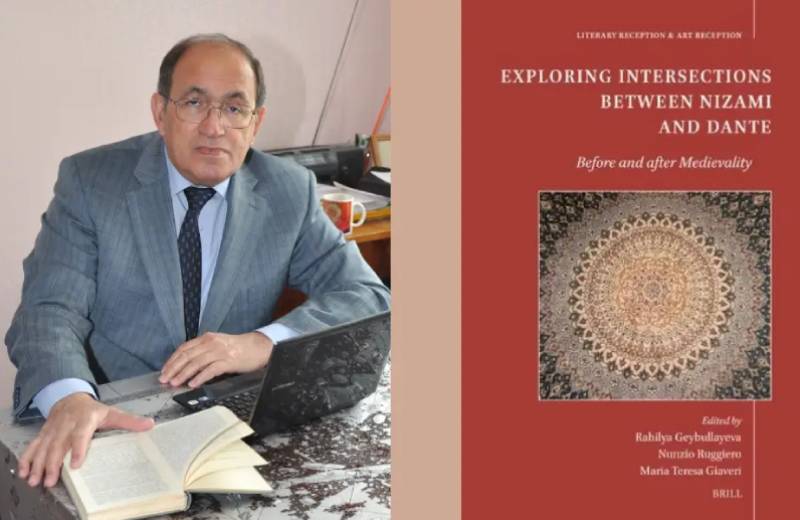Интервью о социальном значении ислама с учёными, общественными и религиозными деятелями Северо-Восточного Кавказа: российским философом Семедом Семедовым, чеченским философом Вахитом Акаевым, заведующим отделом этнографии Кавказа МАЭ РАН Маккой Албогачиевой, ингушским богословом Магомедом Харсиевым, помощником муфтия Дагестана Мухаммадом Магомедовым и заведующим отделением кафедры ЮНЕСКО ДГУ Гюльчохрой Сеидовой.
Интервью провел Алексей Бритвин, аспирант кафедры государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии (РАНХиГС).

Семед Абакаевич Семедов
Российский философ, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой «Международное сотрудничество» ИУ РАНХиГС
Алексей Бритвин: Уважаемый Семед Абакаевич, благодарю Вас за возможность обменяться мнениями по актуальным проблемам и поговорить о тарикате в северокавказской умме, его месте и роли. Известно, что тарикатское движение, как важное религиозно-философское явление, получило наибольшее распространение в республиках Северо-Восточного Кавказа, где его влияние ощущается на протяжении многих веков. Начавшись с территории современного Дагестана, тарикат постепенно охватил Чечню и Ингушетию, став неотъемлемой частью духовной жизни этих республик.
Представляя собой систему суфийских орденов и учений, тарикат прошел через несколько этапов своего развития. На ранних стадиях он сосредоточился на поиске внутреннего знания и духовного просветления, что привлекло множество последователей, стремящихся к более глубокому пониманию своей веры. С течением времени тарикат стал не только религиозным, но и социальным явлением, оказывая влияние на формирование культурных и политических традиций.
Представляющий собой духовное и философское направление в исламе, суфизм появился в ответ на потрясения в социальной и политической сферах, вызванные завоеваниями Халифата и классовыми конфликтами. В условиях нестабильности и неопределенности, с которыми сталкивалась умма, суфизм предложил альтернативный путь, сосредоточив внимание на внутреннем опыте, личной связи с Богом и духовной практике, что привлекло множество людей, ищущих утешение и смысл в трудные времена.
Уважаемый Семед Абакаевич, каковы, на Ваш взгляд, причины возникновения и распространения тариката на Северо-Восточном Кавказе, и какую социальную основу он имеет?
Семед Семедов: Причины возникновения суфизма на Северном Кавказе имеют свои корни в историческом, культурном и религиозном контексте региона.
Исторические причины. Северный Кавказ издавна был местом встречи различных культур и цивилизаций. В регионе всегда существовали тесные контакты между народами, что способствовало обмену идеями и влиянию различных религиозных и философских течений. Суфизм как учение о внутреннем духовном пути к Богу не мог не привлечь внимание мусульман Северного Кавказа. Он позволил людям находить ответы на духовные вопросы, которые часто выходят за рамки как религиозного, так и строго научного или логического понимания.
Культурные факторы. Традиционная культура народов Северного Кавказа, с её богатой мифологией, фольклором и обрядами, создала благоприятную почву для принятия суфийских идей. Суфийские мыслители и шейхи умело использовали местные традиции, чтобы адаптировать учение к местным условиям и сделать его более доступным для населения. Иными словами, в Чечне и Дагестане, по мнению некоторых учёных, суфизм нашёл отклик у представителей разных этнических групп. Это произошло потому, что суфизм и, к примеру, его практика общинного богопоминания - зикра оказались близки и даже идентичны коллективному сознанию народов Кавказа. Они смогли органично вписаться в их архетипы мышления.
Религиозные предпосылки. Изначально ислам пришёл на Северный Кавказ через арабских миссионеров, а затем начал развиваться и распространяться среди местных народов. Вместе с религией пришли и первые идеи, которые впоследствии легли в основу суфийского учения.
Политические и социальные аспекты. Суфизм выполнял важную социальную функцию, объединяя людей вокруг общих духовных ценностей. Это имело большое значение в условиях политических и социальных потрясений, которые нередко переживал регион. Шейхи и другие религиозные лидеры становились авторитетами, способными направлять и поддерживать общество в трудные времена.
Влияние соседних регионов. Распространение суфизма шло не только изнутри, но и извне. Соседи Северного Кавказа – такие регионы, как Азербайджан, Иран и др., уже имели развитые суфийские традиции. Взаимодействие с этими регионами способствовало притоку новых идей и укреплению суфийского движения.
Таким образом, возникновение и распространение суфизма на Северном Кавказе стало результатом сложного взаимодействия исторических, культурных, религиозных и социально-политических факторов.
Алексей Бритвин: Являясь одной из самых глубоких и многогранных традиций в исламе, суфизм оказал значительное влияние не только на религиозное сознание, но и на восточную культуру в целом. Его философские размышления о человеческом существовании, целях и смысле жизни открывают широкие горизонты для понимания внутреннего мира человека и его связи с Всевышним. Суфийское учение об откровении, рассматриваемое как объединение души с Божественным, стало основой для мистического восхождения к Богу, что является конечной целью суфийского пути.
Уважаемый Семед Абакаевич, что же собой представляет институализированный тарикат, включая такие аспекты, как наставничество, ученичество и посвящение?
Семед Семедов: Институализированный тарикат представляет собой организационную структуру, которая регулирует и координирует деятельность тариката – суфийского братства. Наставничество –отношения между наставником (шейхом) и учеником (мюридом), в которых первый передаёт знания, опыт и духовные ценности второму. Наставник помогает ученику пройти путь духовного самосовершенствования и достичь близости к Богу.
Ученичество является этапом становления в рамках тариката, на котором ученик следует указаниям наставника, изучает его учение и практикует духовные упражнения для достижения высших уровней сознания.
Посвящение (или инициация) – это обряд, в процессе которого человек официально становится членом тариката. Во время посвящения шейх даёт мюриду задание (вирд), которое он должен выполнять для поддержания связи с Богом и своим учителем. После посвящения ученик официально считается частью тарикатской общины и может активно участвовать в её жизни. Однако следует подчеркнуть, что в современном мире в Чечне, Ингушетии и Дагестане тарикат стал неотъемлемой частью национальной идентичности и локальной культуры, где не всегда фактор традиционной инициации в тарикат становится основополагающим.
У вайнахов существует традиция передачи тариката от отца к сыну внутри вирдового братства, к которому они принадлежат из поколения в поколения и считается, что если сам шейх инициировал их предков в тарикат, то по факту они прямые его инициируемые наследники. Также существуют объединения мюридов, которые выполняют роль религиозных групп и активно участвуют в религиозных, культурных и социальных мероприятиях. Они являются своего рода представителями общинного духовенства Чечни и Ингушетии.
В Дагестане институт тариката укрепляется благодаря действующим шейхам тариката, которые продолжают передавать знания и опыт в этом направлении. Эта традиция также носит наследственный характер по форме духовной преемственности через иджаза (письменное заключение о праве передачи знаний тариката через шейха к шейху или через шейха своему высокообразованному мюриду).
Алексей Бритвин: На территории Северо-Восточного Кавказа в различные исторические эпохи жили и трудились известные мусульманские ученые и шейхи, которые значительно повлияли на развитие исламской мысли и культуры. Многие из них активно участвовали в борьбе горцев за независимость, объединяя духовную практику с патриотической деятельностью. В этом контексте стоит особенно отметить представителей тарикатов накшбандийа, шазилийа и кадирийа, которые оставили заметный след в истории региона.
Уважаемый Семед Абакаевич, кого из них Вы могли бы выделить, акцентируя внимание на их роли в северокавказской умме, их жизни, духовной деятельности и наследии?
Семед Семедов: Среди представителей суфийских тарикатов накшбандийа, шазилийа и кадирийа, сыгравших значительную роль в северокавказской умме, можно выделить следующих:
Кунта-Хаджи Кишиев (Кадирийский тарикат). Проповедник и духовный лидер, он призывал к миру и ненасилию. Кунта-Хаджи стал символом духовного поиска среди чеченцев в XIX веке. Его учение оказало глубокое влияние на формирование общественного сознания и стало своеобразной формой протеста против насилия и социальных проблем того времени. Религиозная деятельность Кунта-Хаджи также привела к формированию братств кадирийского направления в Ингушетии и Дагестане. Это способствовало укреплению взаимодействия между этими сообществами.
Учение Кунта-Хаджи можно рассматривать как адаптированную версию суфийской антропологии, которая была приспособлена к местным условиям и традициям.
Мухаммад Ярагский (Накшбандийский тарикат). Его считают идейным вдохновителем «национально-освободительного движения горцев Кавказа». Он объединил разрозненные общества Дагестана и Чечни под знаменем ислама и призвал их бороться за свою независимость. Мухаммад Яраги, действуя в Чечне, Дагестане и Ингушетии оказал значительное влияние на своих последователей, которые создали собственные суфийские братства в рамках Накшбандийского тариката. Это привело к появлению большого числа духовных наставников среди горцев. Благодаря этому, было укреплено сотрудничество и братство между народами Чечни и Дагестана.
Абдурахман-хаджи Сугури (Накшбандийский и Шазилийский тарикаты). Известный учёный-богослов, который уделял внимание изучению Корана и распространению религиозных знаний. Он занимался просвещением и воспитанием мусульман в духе любви к Аллаху, братства и сотрудничества. Был духовным наставником многих влиятельных личностей того времени и поддерживал связь с представителями других суфийских течений. Это помогало ему налаживать связи между различными этническими группами и социальными слоями общества.
Следует подчеркнуть вклад Сайфулы Кади Башлярова (Накшбандийский, Шазалийский и Кадирийский тарикаты), чьё имя связано также с распространением этих тарикатов в Дагестане. Будучи человеком широкой эрудиции и владея несколькими языками, он смог распространить тарикат на Кавказе и собрать вокруг себя множество последователей и сторонников.
Эти деятели оставили заметный след в истории и культуре региона и способствовали укреплению единства и идентичности народов Северного Кавказа, несмотря на различия в подходах и учениях суфийских орденов.
Суфийские шейхи с Северного Кавказа оставили после себя богатое наследие не только в области религии, но и в культуре. Они до сих пор служат примером для подражания и идеалом для старшего поколения, которое стремится привить эти ценности нынешней молодёжи.
Информация о роли этих личностей в истории может быть неполной или противоречивой из-за ограниченности исторических источников и сложностей в интерпретации событий. Поэтому при изучении их жизни и деятельности следует учитывать контекст и особенности эпохи, в которой они жили.
Алексей Бритвин: Суфийские братства продолжают занимать значительное место в духовной жизни региона, предоставляя своим последователям как религиозное, так и социальное единство. Однако конкуренция между различными братствами за влияние и преданность мюридов иногда приводит к конфликтам и напряженности. В условиях политической нестабильности и социального давления некоторые братства могут использовать свои ресурсы для мобилизации последователей в поддержку определенных политических или социальных инициатив.
Уважаемый Семед Абакаевич, как Вы считаете, каково современное состояние тарикатских традиций и школ в современных республиках Северо-Восточного Кавказа?
Семед Семедов: Современное состояние тарикатских традиций и школ в этом регионе может быть охарактеризовано как сложное и неоднозначное. С одной стороны, они продолжают играть важную роль в религиозной жизни мусульман и в формировании их мировоззрения. С другой стороны, в современном обществе происходят процессы секуляризации, модернизации и глобализации, которые оказывают влияние на эти традиции и школы. В итоге, на Кавказе сформировался уникальный духовный барьер, защищающий от различных внешних воздействий. Это можно рассматривать как элемент суфийской культуры, которая стала неотъемлемой частью общей культуры региона и теперь воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Однако, поскольку полностью изолировать себя от влияния остального мира невозможно, а это влияние в основном осуществляется через интернет и другие формы коммуникации, региональные власти уделяют особое внимание духовно-нравственному воспитанию, поддерживая данный баланс.
Алексей Бритвин: На рубеже веков Северокавказский суфизм оказался в сложной ситуации, столкнувшись с ваххабизмом — радикальным религиозно-политическим движением, которое подвергло жесткой критике многие аспекты суфийской практики и учения. Ваххабиты, отвергая традиционные формы ислама, такие как суфизм, утверждали, что только их интерпретация является истинной. Результатом явилась напряженность между двумя направлениями, каждое из которых имеет свои уникальные ценности и цели. Суфийские ордена, стремящиеся к стабильности и гармонии в мусульманской общине, выступают идеологическими противниками сторонников радикального ислама.
Уважаемый Семед Абакаевич, как Вы считаете, каково соотношение между тарикатом и исламским экстремизмом, какие проблемы они испытывают и какие возможны пути для разрешения конфликта?
Семед Семедов: Исламский экстремизм представляет собой радикальную и зачастую фундаменталистскую интерпретацию ислама, которая существенно отличается от умеренного и мистического подхода, характерного для суфизма. Экстремисты часто критикуют суфизм за его «неортодоксальность», «синкретизм» и «политические связи». Это приводит к идеологическому противостоянию.
Исламистские экстремисты часто прибегают к насилию для достижения своих целей, представляя угрозу для суфийских общин. Это приводит к нападениям на святыни, убийствам шейхов, как это было в Дагестане с Саидом Афанди из Чиркея и других представителей тариката, а также к принуждению к принятию экстремистской идеологии.
Важно подчеркнуть, что любая религиозная традиция может быть искажена по разным причинам. И чаще всего это происходит из-за того, что человек пытается приспособить религию под свои нужды.
Религия – это не только часть культуры, которая служит высшим целям. Она также влияет на эмоции и чувства людей. В руках опытных манипуляторов она может стать инструментом или даже оружием, причем очень острым и грозным. Но человек становится уязвимым, когда его личность ещё не сформировалась в системе ценностей и духовной культуре. К сожалению, молодое поколение на Кавказе особенно подвержено этому влиянию. Поэтому опасность распространения радикальных течений ислама всё ещё существует. Однако местные муфтияты стараются бороться с этим, просвещая молодёжь. Они создают свои паблики и сайты в интернете, организуют мероприятия и укрепляют семейные ценности. Ведь самое важное, что может защитить от радикализации, – это правильное воспитание детей в школе, семье. Оно должно быть основано на местных традициях, проверенных временем, и наставлениях суфийских учителей.
Москва, 2025

Вахит Хумидович Акаев
Советский и российский философ, доктор философских наук, профессор,
действительный член Академии наук Чеченской Республики, главный научный сотрудник Комплексного научно-исследовательского института РАН имени Х.И. Ибрагимова,
член экспертного совета ВАК по теологии
Алексей Бритвин:Уважаемый Вахит Хумидович, благодарю Вас за возможность обменяться мнениями по актуальным проблемам и поговорить о тарикате в северокавказской умме, его месте и роли. Известно, что тарикатское движение, как важное религиозно-философское явление, получило наибольшее распространение в республиках Северо-Восточного Кавказа, где его влияние ощущается на протяжении многих веков. Начавшись с территории современного Дагестана, тарикат постепенно охватил Чечню и Ингушетию, став неотъемлемой частью духовной жизни этих республик.
Представляя собой систему суфийских орденов и учений, тарикат прошел через несколько этапов своего развития. На ранних стадиях он сосредоточился на поиске внутреннего знания и духовного просветления, что привлекло множество последователей, стремящихся к более глубокому пониманию своей веры. С течением времени тарикат стал не только религиозным, но и социальным явлением, оказывая влияние на формирование культурных и политических традиций.
Представляющий собой духовное и философское направление в исламе, суфизм появился в ответ на потрясения в социальной и политической сферах, вызванных завоеваниями Халифата и классовыми конфликтами. В условиях нестабильности и неопределенности, с которыми сталкивалась умма, суфизм предложил альтернативный путь, сосредоточив внимание на внутреннем опыте, личной связи с Богом и духовной практике, что привлекло множество людей, ищущих утешение и смысл в трудные времена.
Уважаемый Вахит Хумидович, каковы, на Ваш взгляд, причины возникновения и распространения тариката на Северо-Восточном Кавказе, и какую социальную основу он имеет?
Вахит Акаев: Суфизм как аскетическое и мистико-философское течение ислама является реакцией против богатства, образа жизни, феодализирующейся части мусульманского духовенства, протестом против роскоши, безмерного богатства, игнорирования социальной справедливости. Первые суфии мусульманского вероучения своим нищенским образом жизни, призывами к духовному совершенству, призывами к познанию Бога, а впоследствии, определяя этапы приближения к Всевышнему, выражали социальный, духовный протест против установившейся социальной несправедливости, усиления классового расслоения в умме. Путь преодоления социальных и духовных проблем суфии видели в уходе от социальной активности, в духовном самоуглублении, поиске путей, ведущих к Богу. Духовное самосовершенствование было для них спасением от социальной нестабильности, конфликтов. Такой образ жизни знаменитых суфиев привлекал своих сторонников, таким образом, создавались суфийские группы со своими идеями, уставами, практиками.
Алексей Бритвин: Являясь одной из самых глубоких и многогранных традиций в исламе, суфизм оказал значительное влияние не только на религиозное сознание, но и на восточную культуру в целом. Его философские размышления о человеческом существовании, целях и смысле жизни открывают широкие горизонты для понимания внутреннего мира человека и его связи с Всевышним. Суфийское учение об откровении, рассматриваемое как объединение души с Божественным, стало основой для мистического восхождения к Богу, что является конечной целью суфийского пути.
Уважаемый Вахит Хумидович, что же собой представляет институализированный тарикат, включая такие аспекты, как наставничество, ученичество и посвящение?
Вахит Акаев: Очень часто эти группы, тарикаты, выступали в качестве силы, действующей против колонизаторов, отстаивающей интересы народа. Часто лидеры тарикатов, фанатично настроенные верующие и их сторонники становились во главе народных восстаний.
Сегодня институализированный тарикат имеет свои конкретные особенности. На Северном Кавказе суфизм существует в 3-х видах: накшбандийа, кадирийа, шазилийа. Каждый из них в регионе имеет свою историю, идейные параметры, практики, которыми руководствуются их последователи.
Тарикат кадирийа появился в Чечне в конце Кавказской войны, и связан с деятельностью чеченца Кунта-Хаджи, осуждавшего войну, призывавшего горцев к ее прекращению, установлению мирной жизни. Тарикат шазилийа появляется в Дагестане в начале ХХ века, благодаря шейху Сайфула-кади Башлярову, который был сторонником просвещения, образования, культурного развития горцев. Необходимость в таком развитии горцев он считал важным в силу складывающихся, а точнее обостряющихся, социальных проблем в Российской империи. Сосланный в царское время, он получил медицинскую подготовку, был светски образован. Духовную подготовку получил у Поволжских шейхов накшабандийа.
Алексей Бритвин: На территории Северо-Восточного Кавказа в различные исторические эпохи жили и трудились известные мусульманские ученые и шейхи, которые значительно повлияли на развитие исламской мысли и культуры. Многие из них активно участвовали в борьбе горцев за независимость, объединяя духовную практику с патриотической деятельностью. В этом контексте стоит особенно отметить представителей тарикатов накшбандийа, шазилийа и кадирийа, которые оставили заметный след в истории региона.
Уважаемый Вахит Хумидович, кого из них Вы могли бы выделить, акцентируя внимание на их роли в северокавказской умме, их жизни, духовной деятельности и наследии?
Вахит Акаев: В начале 20-х годов Х1Х века в Южном Дагестане мулла Мухаммад Ярагский был посвящен в тарикат накшбандийа, а точнее в его ветвь накшбандийа-халидийа. Он считается первым муршидом Дагестана. Этого классически образованного мусульманского ученого посвятили в этот тарикат в Шарване через шейха Исмаила-хаджи Курдамирского. Сам этот шейх был учеником Халида ал Багдади, известного в мусульманском мире лидера тариката накшбандийа.
В условиях активизации завоевательной политики Ермолова в Дагестане, в Чечне среди мусульман региона стали активизироваться протестные настроения, имеющие антицаристскую, антиколонизаторскую направленность. Ученик Мухаммада Ярагского, Газимухаммад из Гимров, стал склонять своего друга Шамиля к борьбе против наступления русских войск, призывая мусульман к газавату. Поддержка этой идеи Ярагским, детерминировала организованное и идеологически обоснованное движение горцев, названное мюридизмом, хотя были и его противники. Именно тарикат накшбандий-халидийа является идеологической основой сопротивления горцев во главе с Газимухаммадом, а затем и Шамилем.
Надо признать и то, что в Дагестане были суфии, которые выступали против газавата, кровопролития, например суфий-мистик Джамалуддин Казикумухский. Лично он и запрещал провозглашение газавата в Дагестане. Фактически разрешение на газават было дано М. Ярагским, первым муршидом Дагестана.
Дагестанские сторонники тариката, которые состояли из беднейших слоев мусульман, видели в завоеваниях царизма и в собственных феодалах, ориентированных на русского царя, эксплуататоров, врагов ислама и традиционного образа жизни горцев.
Алексей Бритвин: Суфийские братства продолжают занимать значительное место в духовной жизни региона, предоставляя своим последователям, как религиозное, так и социальное единство. Однако конкуренция между различными братствами за влияние и преданность мюридов иногда приводит к конфликтам и напряженности. В условиях политической нестабильности и социального давления некоторые братства могут использовать свои ресурсы для мобилизации последователей в поддержку определенных политических или социальных инициатив.
Уважаемый Вахит Хумидович, как Вы считаете, каково современное состояние тарикатских традиций и школ в современных республиках Северо-Восточного Кавказа?
Вахит Акаев: В конце Х1Х века происходит сегментация тарикатов накшбандийа и кадирийа, что было вызвано преследованиями царской власти, попытками через уединение сохранить свои более мелкие организационные формы, именуемые вирдами. С другой стороны, эта сегментация изолировала их друг от друга, порождая определенную религиозную, политическую конкуренцию. Преследуемые царской, а также советской властью, вирды часто скрывали свою духовную, практическую деятельность. Нередко эти братства, скрывавшие свою религиозную деятельность от власти, в кризисных политических условиях активизировались и мобилизовывали своих сторонников в поддержку или против того или иного процесса.
Современная религиозная деятельность суфийских братств в Дагестане, Чечне и Ингушетии направлена на сохранение и укрепление своих позиций, они пытаются сохранить и увеличить число своих сторонников. Их отношение к государственной власти лояльно, что способствует их «легитимации». В Дагестане суфии, например, шазилийцы, последователи накшбандийа, составляют «опору» официальной власти. В Чеченской Республике, кадирийцы, которые преследовались в царское время, а в советское время признавались мракобесами, реакционерами и фанатиками, сегодня составляют духовно-политическую опору власти. Они превратились в важнейший фактор политической стабилизации общества.
Алексей Бритвин: На рубеже веков Северокавказский суфизм оказался в сложной ситуации, столкнувшись с ваххабизмом – радикальным религиозно-политическим движением, которое подвергло жесткой критике многие аспекты суфийской практики и учения. Ваххабиты, отвергая традиционные формы ислама, такие как суфизм, утверждали, что только их интерпретация является истинной. Результатом явилась напряженность между двумя направлениями, каждое из которых имеет свои уникальные ценности и цели. Суфийские ордены, стремящиеся к стабильности и гармонии в мусульманской общине, выступают идеологическими противниками сторонников радикального ислама.
Уважаемый Вахит Хумидович, как Вы считаете, каково соотношение между тарикатом и исламским экстремизмом, какие проблемы они испытывают и какие возможны пути для разрешения конфликта?
Вахит Акаев: Так называемый ваххабизм, как новое для региона религиозно-политическое движение в исламе, хотя в мусульманском Востоке оно существует более полутора веков, на Северном Кавказе не было известно. По крайней мере, оно не проявляло себя ни духовно, ни политически. Идеология и практика ваххабизма на Северном Кавказе ощутимо проявились накануне и после распада СССР. С нашей точки зрения, вопрос неожиданного, активно-агрессивного распространения ваххабизма в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, в целом России, в должной мере не изучен.
Взаимоотношения между местным исламом, который был представлен в форме суфизма и ваххабитскими новациями на Северном Кавказе были напряженными, часто переходили во враждебные, имело место и кровопролитие. Суфизм, адаптированный к местным культурам, отстаивал народные ценности, традиции. Ваххабиты же, отрицая суфийский ислам, считая его заблуждением, порождая религиозные и политические конфликты, разрушительно влияли на исторически сложившиеся религиозные и политические традиции, образ жизни местных народов.
Грозный, 2025
Алексей Бритвин: Уважаемый Вахит Хумидович, благодарю Вас за возможность обменяться мнениями по актуальным проблемам и поговорить о роли ислама, как объединяющем идеологическом начале, формирующем уважение к традиционным общественным нормам и правосудию, почитанию обычаев и традиций в духовном развитии личности. Вместе с тем, величие мира и его постоянное развитие требует пересмотра проблем, ответы на которых, возможно, были найдены ранее. Как Вы полагаете, что представляет собой религия ислам, каковы ее цели и задачи сейчас? Какое место занимает нравственность в исламе?
Вахит Акаев: Ислам является одной из трех монотеистических религий, в которой утверждается принцип таухида (единобожия), отрицается и осуждается многобожие, устанавливается непосредственную связь Всевышнего и верующего. Мусульманин должен поклоняться только Аллаху, все иные формы поклонения в исламе запретны и осуждаются. Он призывает верующих к миру, согласию и созиданию, а людей, принадлежащих к разным народам, говорящих на разных языках, к взаимному узнаванию, сотрудничеству. Ислам выступает против насилия, зла, он призывает творить добро, обустраивать землю, распространять мир на ней, приобретать знания, в поисках которых мусульманин должен находиться до конца его жизни. Вера в единого и единственного Бога и глубокие знания – основа возвышения Всевышним верующего. В этом в общих чертах заключаются цель и задачи, решаемые исламом.
Алексей Бритвин: В основе Христианства лежит идея мессианства – надежды на Божественного избавителя мира от всего плохого, что есть на Земле. Десять библейских Заповедей, которые обязаны соблюдать христиане, и прописанные в Коране законы содержат в себе моральные нормы и правила поведения, предписанные для верующих. В чем, на Ваш взгляд, заключается сущность и отличие исламской этики и морали? Каковы их принципы, особенности и разновидности, что является их источником?
Вахит Акаев: Ислам изначально выступает против безнравственности. В противном случае его цели и задачи не могут реализоваться. Ислам придает особое внимание моральному состоянию верующего, который должен совершать богоугодные дела, которые сопряжены с боязнью перед Аллахом, который все видит и все знает, является покровителем и судьей. В Коране утверждается: «Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос – это рев осла» (31:18-19).
Лицемерие, плутовство, злословие и подозрительность, лживость, гордыня, зависть, гневливость, разобщенность, невоздержанность решительно осуждается в исламе. Мусульманин в обществе и наедине с собой должен быть богобоязненным, справедливым, соблюдать меру в богатстве, и в бедности, милосердным, праведным. Этические (моральные) максимы ислама коррелируются с Декалогом Библии и с Нагорной проповедью Иисуса Христа. Выявление особенного и общего между ними – важнейшая исследовательская задача, требующего своего решения. Источником моральных принципов религии является реальные человеческие отношения, в том числе, порождающие насилие, а также, их осмысление с целью преодоления и совершенствования, поиска путей духовно-нравственного развития человека.
Алексей Бритвин: Рассматривая Ислам, как сложную систему знаний и значимых ориентаций, обеспечивающих развитие социума, что, в нем, на Ваш взгляд, составляет основу формирования и функционирования идеологических взглядов, представлений и ценностей? Исходя из идеологической структуры северокавказского социума, какие Вы могли бы выделить предпосылки, этапы становления и результаты развития исламской культуры в регионе?
Вахит Акаев: Ислам – эта вера в единого и единственного Бога, система положений, представленные в Коране и Сунне, которые должен освоить и, которыми, мусульманин должен руководствоваться в своей практической деятельности. Знание Ислама и следование его положениям способствует духовному совершенству мусульманина и мусульманского общества. Формированию идеологических взглядов способствуют соответствующие социальные теории, разрабатываемые отдельными учеными, при этом используются и религиозные представления, знания, которые призваны совершенствовать противоречивую земную жизнь. На Северном Кавказе нет единого социума, многообразные народы, проживающие здесь, отличаются своими этническими особенностями, культурными ценностями, многие из них придерживаются своих обычаев, традиций. Фактором их идеологического объединения являются этно-национальные ценности, Ислам (или Христианство) и общероссийские конституционные положения.
Алексей Бритвин: Как Вы полагаете, какой должна быть система государственно-религиозных отношений, чтобы развивать, а не угнетать, религиозную уникальность?
Вахит Акаев: Религиозные, в том числе исламские организации, должны нацеливаться государством на решение духовно-культурных, социально значимых проектов, на осуществление миротворческой деятельности, противодействия радикалистским и экстремистским проявлениям.
Алексей Бритвин: Религиозный фактор придает неповторимый колорит и своеобразие межэтническому миру и согласию, активно влияет на формирование гражданского сознания и этнопсихологии. В условиях многонациональности и полирелигиозности российского общества происходит взаимодействие различных традиций, культур, менталитетов. Вместе с тем, в результате неустойчивого нравственно-психологического климата в обществе, неспособного надежно противостоять любым негативным тенденциям, случаются конфликты на религиозной и межэтнической почве. Какими на Ваш взгляд могли бы быть этнополитические и политико-правовые способы регулирования межрелигиозных и межэтнических отношений? В чем могут заключаться модели урегулирования этнополитических конфликтов в условиях использования религиозного фактора?
Вахит Акаев: В российском полиэтническом, поликонфессиональном государстве государственно-религиозные отношения регулируются на основе Конституции страны и соответствующих законодательных актов. Эти отношения на разных этапах Российского государства были различными. Сегодня уделяется большое внимание сотрудничеству власти и религиозных организаций, мерам их совершенствования. В этом отношении важно учитывать, бытующие в обществе различные этно-национальные традиции, ценности, духовно-культурное наследие, ментальные и религиозные особенности народов при учете общегосударственных особенностей и российской идентичности. Умелое осуществление этой позиции позволит упредить проявления религиозно-политического экстремизма, межнациональных конфликтов. Успешное построение религиозно-конфессиональных отношений в российском обществе видится на основе правого и политического совершенствования взаимоотношения граждан страны, в том числе верующих, единства этнических, религиозных и общегосударственных форм идентичностей.
Грозный, 2021

Макка Султан-Гиреевна Албогачиева
Российский учёный-историк, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий Отделом этнографии Кавказа МАЭ РАН
Алексей Бритвин: Уважаемая Макка Султан-Гиреевна, благодарю Вас за возможность обменяться мнениями по актуальным проблемам и поговорить о тарикате в северокавказской умме, его месте и роли. Известно, что тарикатское движение, как важное религиозно-философское явление, получило наибольшее распространение в республиках Северо-Восточного Кавказа, где его влияние ощущается на протяжении многих веков. Начавшись с территории современного Дагестана, тарикат постепенно охватил Чечню и Ингушетию, став неотъемлемой частью духовной жизни этих республик.
Представляя собой систему суфийских орденов и учений, тарикат прошел через несколько этапов своего развития. На ранних стадиях он сосредоточился на поиске внутреннего знания и духовного просветления, что привлекло множество последователей, стремящихся к более глубокому пониманию своей веры. С течением времени тарикат стал не только религиозным, но и социальным явлением, оказывая влияние на формирование культурных и политических традиций.
Представляющий собой духовное и философское направление в исламе, суфизм появился в ответ на потрясения в социальной и политической сферах, вызванные завоеваниями Халифата и классовыми конфликтами. В условиях нестабильности и неопределенности, с которыми сталкивалась умма, суфизм предложил альтернативный путь, сосредоточив внимание на внутреннем опыте, личной связи с Богом и духовной практике, что привлекло множество людей, ищущих утешение и смысл в трудные времена.
Уважаемая Макка Султан-Гиреевна, каковы, на Ваш взгляд, причины возникновения и распространения тариката на Северо-Восточном Кавказе, и какую социальную основу он имеет?
Макка Албогачиева: Помимо изложенного, на мой взгляд, важную роль в его возникновении и распространении сыграла идентичность свойственных северокавказскому социуму норм адатов и шариата в тех или иных вопросах. Например, недопустимость внебрачных связей коррелировала с существующим многоженством, калымом. Шейхи того или иного тариката хорошо ориентируясь в обычном праве горцев сопоставляли их жизнедеятельность с нормами шариата. Особую роль в становлении тариката сыграли корни зороастризма и язычества, которые до прихода ислама исповедовали местные жители. Определенный пантеон к Творцу, в данном случае – Аллаху, местные жители выстраивали по аналогии деятельности их предков как к верховному жрецу. В связи с чем, у шейхов была благодатная почва по популяризации ислама (суфизма).
Алексей Бритвин: Являясь одной из самых глубоких и многогранных традиций в исламе, суфизм оказал значительное влияние не только на религиозное сознание, но и на восточную культуру в целом. Его философские размышления о человеческом существовании, целях и смысле жизни открывают широкие горизонты для понимания внутреннего мира человека и его связи с Всевышним. Суфийское учение об откровении, рассматриваемое как объединение души с Божественным, стало основой для мистического восхождения к Богу, что является конечной целью суфийского пути.
Уважаемая Макка Султан-Гиреевна, что же собой представляет институализированный тарикат, включая такие аспекты, как наставничество, ученичество и посвящение?
Макка Албогачиева: Суфизм очень сильно повлиял на жизнь северокавказского общества, именно с его особенностями, повсеместным распространением на территории Северо-Восточного Кавказа. Хотелось бы отметить роль женской половины социума, которая, выполняя роль хранительницы очага, привносила в свои семьи нормы и ценности ислама, через постижение Божественного, через дуа, в том числе реализуя ритуал зикр. Впервые женщины получили свободу в проведении ритуальных практик. Особое внимание следует уделить инициации нового последователя тариката, в последствие чего его учителем становится шейх того или иного тариката, выполняя роль своеобразного проводника в мир суфизма.
Алексей Бритвин: На территории Северо-Восточного Кавказа в различные исторические эпохи жили и трудились известные мусульманские ученые и шейхи, которые значительно повлияли на развитие исламской мысли и культуры. Многие из них активно участвовали в борьбе горцев за независимость, объединяя духовную практику с патриотической деятельностью. В этом контексте стоит особенно отметить представителей тарикатов накшбандийа, шазилийа и кадирийа, которые оставили заметный след в истории региона.
Уважаемая Макка Султан-Гиреевна, кого из них Вы могли бы выделить, акцентируя внимание на их роли в северокавказской умме, их жизни, духовной деятельности и наследии?
Макка Албогачиева: На мой взгляд, проще всего обратиться к работам Шихалиева, изучавшего шазалийский и накшбандийский тарикаты (Шамиль Шихалиев – научный сотрудник Центра востоковедения ИАЭ Дагестанского научного центра РАН).
Алексей Бритвин: Суфийские братства продолжают занимать значительное место в духовной жизни региона, предоставляя своим последователям как религиозное, так и социальное единство. Однако конкуренция между различными братствами за влияние и преданность мюридов иногда приводит к конфликтам и напряженности. В условиях политической нестабильности и социального давления некоторые братства могут использовать свои ресурсы для мобилизации последователей в поддержку определенных политических или социальных инициатив.
Уважаемая Макка Султан-Гиреевна, как Вы считаете, каково современное состояние тарикатских традиций и школ в современных республиках Северо-Восточного Кавказа?
Макка Албогачиева: Особое внимание следует уделить лидеру кадирийского тариката Кунта-Хаджи Кишиеву, чья деятельность, жизнь и судьба были направлены на достижение мира и согласия на Северном Кавказе, противодействие Шамилю и сохранение северокавказского народа в годы многолетней Кавказской войны.
Алексей Бритвин: На рубеже веков Северокавказский суфизм оказался в сложной ситуации, столкнувшись с ваххабизмом – радикальным религиозно-политическим движением, которое подвергло жесткой критике многие аспекты суфийской практики и учения. Ваххабиты, отвергая традиционные формы ислама, такие как суфизм, утверждали, что только их интерпретация является истинной. Результатом явилась напряженность между двумя направлениями, каждое из которых имеет свои уникальные ценности и цели. Суфийские ордена, стремящиеся к стабильности и гармонии в мусульманской общине, выступают идеологическими противниками сторонников радикального ислама.
Уважаемая Макка Султан-Гиреевна, как Вы считаете, каково соотношение между тарикатом и исламским экстремизмом, какие проблемы они испытывают и какие возможны пути для разрешения конфликта?
Макка Албогачиева: На современном этапе наблюдается глубокое противостояние последователей тарикатского движения и исламистов, к которым тяготеет молодое поколение, не желая придерживаться норм традиционного ислама.
Санкт-Петербург, 2025

Магомед Даудович Харсиев
Исламский богослов, руководитель отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и СМИ Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия
Алексей Бритвин: Уважаемый Магомед Даудович, благодарю Вас за возможность обменяться мнениями по актуальным проблемам и поговорить о роли ислама, как объединяющем идеологическом начале, формирующим уважение к традиционным общественным нормам и правосудию, почитанию обычаев и духовного развития личности. Как Вы полагаете, что представляет собой религия ислам, каковы ее цели и задачи? Какое место занимает нравственность в исламе?
Магомед Харсиев: Как говорят исламские ученые, Ислам зародился не только с появлением пророка Мухаммада, а с момента появления человека на земле. Потому что ислам означает покорность Всевышнему Создателю. И мусульмане строго верят в то, что все пророки были посланы Всевышним, чтобы направить людей на истинный путь. И как сказал Пророк: «Все пророки являются братьями – у них разные матери, но религия у них одна». Религия у них – это призыв к единобожию. И практически все пророки призывали к одному и тому же. Мы считаем, что Пророк Мухаммад – это продолжение цепочки пророков, в которой он сам являлся последним Пророком, как его называют – печатью пророков. И если посмотреть и внимательно изучить аят Священного Корана, где Всевышний Аллах обращается именно к людям, а не только к верующим: «Те, которые уверовали». В этом аяте есть обращение: «О, люди». Всевышний Аллах говорит: «Мы сотворили вас от мужчины и женщины, сделали народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. Поистине, самые почитаемые из вас перед Всевышним – самые богобоязненные» (49:13). Отличие заключается в богобоязненности. И перед Всевышним Аллахом наивысшую степень имеет человек богобоязненный. Не по национальному признаку, или по какому-то другому признаку, или по какой-то физической силе. Поэтому Ислам – это религия, которая всегда призывала, к единобожию, всегда призывала к миру, к добрососедству. Практически все аспекты жизни человека упомянуты в религии – в Коране и хадисах Пророка.
Есть прекрасная книга, которая называется «Ихйа улум ад-дин» (Возрождение религиозных наук), автором которой является известный ученый-философ имам аль-Газали. В этой книге полностью поясняется суть и смысл жизни именно с религиозной точки зрения, религиозной мусульманской философии. Сегодня мы пытаемся как-то преодолеть смуту, когда на ислам идут нападки и обвинения в терроризме. Мы понимаем, что причины таких нападок также исходят от людей, которые, как бы, являются мусульманами. Для этого мы должны смотреть на жизнь Пророка и на его отношение к людям, на жизнь его сподвижников и их отношение к своим соседям, которое мы знаем из известной «Мединской декларации». Когда Пророк переселился в Медину, там жили различные общества, и иудеи, и христиане. Там же жили мусульмане после принятия ислама. Пророк составил декларацию, которая гласила, что все, кто проживает в Медине, являются уммой. То есть, они обязаны защищать друг друга. Если враг будет нападать на Медину, они вместе будут защищать другу друга.
Мусульмане были обязаны защищать и иудеев, и христиан. А христиане и иудеи в свою очередь, в случае внешней угрозы, были обязаны защищать и мусульман. Эта Декларация – своего рода конституция того времени, которую заложил Пророк Мухаммад. Если рассмотреть Мекканский период жизни Пророка, в особенности историю про то, как его вынудили покинуть Мекку, то мы увидим, что у Пророка не было другого шанса, другого выбора, кроме как покинуть Мекку. После того, как он покинул Мекку и переселился в Медину, первым сражением была битва при Бадре. Если посмотреть по расстоянию, место битвы было к Медине намного ближе. Это означает, что мекканцы пришли туда добивать мусульман, но проиграли. И если взять практически все войны, всегда мусульмане защищались, не было нападений.
Любая Конституция в мире призывает к защите прав и свобод граждан. Таким образом, мусульмане защищались, это была их обязанность. Как сказано в хадисах, тот, кто умер, защищая себя, защищая свою честь и достоинство, умер блаженным, то есть на пути Всевышнего.
Самые главные ценности Ислама называют столпы Ислама. К чему ислам призывает в пяти самых главных ценностях? – Это религия, это сохранение жизни, сохранение чести человека, сохранение имущества человека, сохранение достоинства человека. Никто не имеет права покушаться на жизнь другого человека. И в аятах говорится, что тот, кто убьет верующего человека без причины – это равно тому, как будто он убил весь народ, всю умму погубил. Это не значит, что по причине вражды можно убивать, нет, абсолютно. В другом аяте говорится, что, тому, кто умышленно убил верующего человека, воздаянием будет геенна, в которой он будет гореть вечно. Также для него будет проклятие Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах разгневается на него, и накажет его мучительным наказанием в Судный день.
Из этих аятов и хадисов мы узнаем, что ислам призывает именно к сохранению жизни, и никого не заставляет насильно принимать религию. Также нельзя насильно заставить совершить грех. Допустим, в исламе запрещено пить спиртное. Если человека заставляют под угрозой выпить спиртное, то в этом случае на нем нет греха. Есть аят в Священном Коране, где говорится: «Нет принуждения в религии» (2:256). Никто не может принудить другого человека принять ислам или совершить какое-то поклонение. Поэтому мы абсолютно четко понимаем, что суть ислама – это призыв к миру.
Каждая сура в Коране начинается со слов «Бисмилляхи Рахмани Рахим». – Что означают эти слова? – Эти слова означают: «Именем Аллаха милостивого и милосердного». Имеется в виду милосердие и милость. В хадисах Пророк призывает проявлять милосердие ко всем на земле – как к людям, так и к животным. Нужно быть милосердным к созданиям Всевышнего Аллаха, и тогда Всевышний будет милостив по отношению к вам. Это хадис Пророка. Также есть аят Корана, в котором говорится: «Если бы Всевышний Аллах не позволил людям защищать друг друга, то в этом случае были бы разрушены кельи, церкви, синагоги, мечети, в которых премного поминают имя Всевышнего Аллаха» (22:40). Поэтому в исламе от колыбели до могилы полностью расписаны все нормы жизни, нормы этики, нравственности, все, что необходимо человеку: как вести себя с собой, со своими домашними, родственниками, соседями, с людьми другой веры, как выстраивать с ними отношения.
Последнее время мы замечаем, что люди, наоборот, проявляют жесткость, пытаясь дискредитировать, очернить мусульман. В последние 20-25 лет мусульмане просто вынуждены говорить, что ислам не имеет никакого отношения к террору, к убийствам. – Что побудило к этому? – Побудили к этому люди, которые зная, что они неправы, или не зная, поверхностно толкуют некоторые тексты Священного Писания, толкуют их на свой лад, как им угодно, и творят злодеяния.
В ценности сохранения потомства заключается все, что касается морали и нравственности. Главная цель – сохранение потомства, чтобы жизнь продолжалась на Земле. Это означает, чтобы мужчина женился на женщине, она выходила замуж за мужчину, чтобы у них рождались дети. Пророк сказал: «Женитесь на той, которая будет рожать вам детей». Мы видим, сегодня появляются однополые браки, теряется стыд. У них не может быть нормальных детей. Хвала Всевышнему, у нас в России этого нет. Стесняться, иметь совесть – это основа моральных принципов.
Алексей Бритвин: Хотел уточнить, в Коране говорится, что верующий человек – это тот человек, который верует в Бога, во Всевышнего, вне зависимости от принадлежности к какой- либо религии, конфессии?
Магомед Харсиев: Такого толкования, как Вы сказали, я не встречал. Есть, конечно, аяты в Коране, где говорится о тех, которые уверовали. Есть основы в Исламе – иман, ихсан поклонение). – Что такое Ислам? – Это свидетельство, что нет божества, кроме Всевышнего Аллаха, кроме Создателя; что необходимо совершение пятикратной молитвы; что следует подавать милостыню закят, которой облагается имущество, но лишь при возможности; что благословенно совершать пост в месяц Рамадан; и должно совершать паломничество хадж, но, также, лишь при наличии возможности. Иман – это вера во Всевышнего Аллаха, в его ангелов и в его посланников, вера в Судный день, и также, вера в судьбу. Мусульмане верят, что все посланники являются пророками Всевышнего, и все являются братьями. Но такого аята в Коране, в котором бы говорилось, что верующий человек – это верующий во Всевышнего, вне зависимости от вероисповедания, нет.
Алексей Бритвин: Какое место занимает нравственность в исламе?
Магомед Харсиев: Есть аят в Священном Коране, в котором, обращаясь к Пророку, Всевышний Аллах говорит: «Воистину ты обладаешь высоким нравом» (68:4). Также есть такой хадис Пророка: «В Судный день наиболее близкие к Всевышнему Аллаху будут те, кто обладал высоким нравом, красивым, благим нравом». В другом хадисе говорится: «Благой нрав – половина веры». Никогда в жизни человек, не обладающий благим нравом, не может стать мудрым, праведным человеком, или даже ученым. Благой нрав – это духовно-нравственное воспитание самого себя и духовно- нравственное воспитание других людей.
Есть хадис о том, как Пророк сидел у себя дома, и зашел Абу-Бакр. При этом, нога Пророка не была покрыта. Затем зашел Умар. А Пророк, опять же, не прикрыл свою ногу. А когда зашел Усман, Пророк закрыл свою ногу, и привстал. Когда Пророка спросили об этом, он сказал: «Конечно, как я могу не стесняться того, кого стесняются и ангелы». Усман был таким сподвижником, который выделялся стеснительным нравом. Он был очень застенчивым. Даже, когда он купался, он не снимал с себя одежду. Таким образом, нравственность мы берем у пророков, которые обладали самым высоким нравом. Как говорит хадис Пророка, лучшие из вас – лучшие для своих близких людей, для своих родственников. «Я лучший из вас для своей семьи», – сказал Пророк. Здесь имеется в виду, что у каждого человека все начинается с семьи. Если у человека в семье все хорошо, то у него и вне семьи тоже все нормально. Когда в семье идет постоянный разлад, споры, смуты, нервы, раздражительность, то это все выходит из семьи, это передается другим людям. Поэтому в тех, кто не обладает высоким, красивым нравом, нет ничего хорошего». В упомянутой мной книге «Ихйа улум ад-дин» очень подробно описывается высокий нрав, отношение к самому себе, развитие и воспитание самого себя.
Алексей Бритвин: В основе Христианства лежит идея мессианства – надежды на Божественного избавителя мира от всего плохого, что есть на Земле. Заповеди Блаженств, которые обязаны соблюдать христиане, и прописанные в Коране законы, содержат в себе общие моральные нормы и правила поведения, предписанные для верующих. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность исламской этики и морали, и откуда она проистекает?
Магомед Харсиев: Те заповеди, которые содержатся в Библии, практически все упоминаются в Коране, даже в такой последовательности, как десять заповедей. Убийство человека, на котором нет никакой вины – один из самых тяжких грехов. Здесь без разницы, какой веры данный человек. Есть хадис, в котором говорится о том, кто такой настоящий верующий человек, истинный мусульманин: «Истинный, искренний мусульманин тот, от чьих рук и языка другие находятся в безопасности».
Как говорится в Коране: «Пророки для вас были благим примером» (33:21). Даже в самый сложный Мекканский период при острой вражде против мусульман, язычники оставляли свое имущество и драгоценности на хранение Пророку Мухаммаду. Это означает, что они ему полностью доверяли. И они знали, что он не может обмануть. Есть хадис о том, как Пророк собрал людей и спросил их: «Когда я вам хоть один раз солгал?» – они сказали: «Нет, не было такого». Даже в юношеские годы Пророка никто не мог его упрекнуть в каком-то грехе или проступке. Пророка называли в Мекке аль-Амин – тот, которому доверяют практически все люди.
Есть другой хадис, в котором говорится, что Пророк, поклявшись, три раза сказал: «Скорее во Всевышнего Аллаха не верует тот, не верует тот, не верует тот». – Его спросили: «Кто не верует?», – он сказал: «Не верует тот, кого боятся его соседи». – Если твои соседи тебя боятся, боятся какого-то вреда от тебя или постоянно живут в опасении от тебя, в этом случае ты не являешься верующим человеком. Да, ты можешь поверхностно говорить, что ты верующий человек, ты можешь совершать молитвы, но на самом деле перед Всевышним Аллахом ты не являешься верующим человеком.
Есть священный аят, в котором Всевышний Аллах говорит: «Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи им: «Вы не уверовали, вы просто приняли ислам, но на самом деле вы еще не уверовали. Вера пока не вошла в ваши сердца. Вы ее не поняли. Вы не прожили, вы не знаете, что такое вера, она не коснулась ваших сердец» (49:14). Только когда вера касается сердца человека, он становится тем, кого можно назвать верующим и настоящим мусульманином.
Все пророки являются братьями, их призыв был к одному и тому же. Мы, мусульмане, считаем, что пророк Иса был посланником Всевышнего Аллаха, и мы в это веруем, что он был посланником до пророка Мухаммада. И мы также веруем, что Инджиль (Евангелие) – это, также, благая весть. Мы, мусульмане, верим, что пророк Иса был благой вестью. И каждый посланник сообщал людям, что после него будет другой посланник. И мы верим в то, что пророк Иса пришел с благой вестью о том, что после него будет пророк, имя которому будет Ахмад (производное от Мухаммад). Поэтому религиозной нравственности отводится огромное внимание, и существует целая наука, по которой написаны сотни книг.
Есть хадис, который говорит, что: «Каждый ребенок рождается с чистой верой». Он рождается чистым, безгрешным. Затем родители прививают ему любовь к той или иной религии. Дна мусульман первоисточники – это, конечно, Священный Коран, откуда мусульмане берут свои знания. Второй источник – это хадисы, изречения пророка Мухаммада, все, что он говорил, все, что он делал. У хадиса есть свои разновидности: 1. то, что Пророк сказал; 2. то, что Пророк сам делал; 3. то, что Пророк сам видел и оставил как есть, то есть подтвердил. Третий источник – это единогласное решение ученых, в отношении того или иного вопроса. Единогласное решение ученых основывается на Священном Коране и на изречениях Пророка. Дальше идут уже деяния сподвижников Пророка, и, в зависимости от различных течений в исламе, деяния жителей Медины. Жители Медины являются современниками и преемниками Пророка и его сподвижников. Фактически все жители Медины совершили какое-то деяние, которое не просто так появилось, а передавалось от поколения к поколению.
Это основные источники, откуда мусульмане черпают свои знания, черпают науку жизни, религии, науку о правильном совершении поклонения. В исламе есть четыре мазхаба – это четыре правовые школы в исламе, которые называются шафиитский мазхаб, ханафитский мазхаб, маликитский мазхаб и ханбалитский мазхаб. В зависимости от географического положения, местности, где жили основатели этих правовых школ, начал развиваться тот или иной мазхаб. В Африке, например, развивался маликитский мазхаб. Если взять Азию, там распространился ханафитский мазхаб. Если взять арабские страны, или даже Кавказ, то здесь распространился шафиитский мазхаб. Во время Пророка и его сподвижников, не было такого понятия как мазхаб. Сподвижники просто делали то, что делал Пророк. А последователи сподвижников делали то, что делали сподвижники, то есть все, что касалось молитвы, касается совершения хаджа, поста, взаимоотношений, торговых отношений, брака и завещаний. Когда появлялся вопрос, они спрашивали у более сведущего и получали ответ. Но прошло 100-200 лет, и появились тысячи хадисов. Ученые хадисоведы стали проверять цепочки передатчиков хадисов и определять хадисы достоверными или слабо достоверными.
Алексей Бритвин: Уважаемый Магомед Даудович, благодарю Вас за подробный ответ. Рассматривая Ислам, как сложную систему знаний, что, на Ваш взгляд, составляет основу формирования идеологических взглядов, исходя из особенностей северокавказского социума?
Магомед Харсиев: Один из исламских ученых Х века обошел весь Северный Кавказ по Северокавказскому хребту. Даже в то время он говорил, что это уникальный край, очень своеобразный, где проживают более 72 народов. И каждый народ имеет свой язык, свою культуру и свой уклад жизни. Все это зависело от того, как и откуда ислам проникал на Северный Кавказ. Сюда ислам шел через Азербайджан.
На Северном Кавказе люди по-разному принимали ислам. В XIII веке, во время нашествия Тимура, по ряду свидетельств в Магасе уже стояли мечети. Но потом от ислама на территории современной Ингушетии практически ничего не осталось. Затем, с появлением Мансура, который попытался объединить все кавказские народы, и дошел до Анапы, опять начался этап развития.
Тем не менее, постоянно были такие этапы, когда принимали ислам, потом принимали христианство, потом опять возвращались в мусульманство. Но, со середины XIX века ислам начал окончательно утверждаться в Ингушетии. Ингуши последними приняли ислам на Кавказе. Мы полагаем, что ингуши приняли ислам в середине XIX века. Тогда началось распространение тариката, и в ингушском обществе насчитывалось до 10 тысяч мусульман.
Вообще, тарикат – это духовная школа, которая воспитает человека и приближает его ко Всевышнему Аллаху, которая призывает к аскетизму, призывает к тому, что мир, в котором мы проживаем, – ничто. Самое главное для нас – это загробная жизнь. Это то, к чему призывает тарикат.
С середины XIX века мусульмане, которые проживают на Северном Кавказе, придерживались суфийской школы. В медресе обучали духовному воспитанию – уважению к родителям, к старшим, к учителю, который тебе преподает. Если рассмотреть методику преподавания исламских наук, то это методика одной из самых старых школ, которая зародилась в Дагестане, ушла в Чечню и оттуда в Ингушетию. Если взять наши исламские школы, там преподают по той же методике, которая была 100 лет назад.
После развала Советского Союза, когда открылись границы, люди начали выезжать за пределы Северного Кавказа в такие страны, как Египет, Саудовская Аравия, Алжир, Сирия. Там они поступали в высшие исламские школы, а затем приезжали обратно. Здесь получилась проблема. Те, которые приехали из Саудовской Аравии, уже не разделяли взгляды местной традиционной школы. Те, которые приехали из Египта, мягче относились к вопросам традиции. И те, кто приехали из Сирии, также имели свой особый подход.
Раньше, лет 30 лет назад, если человек не придерживался тарикатов суфийской школы, то для людей это было очень странно. Сегодня мы видим многих людей, которые говорят: «Мы не придерживаемся тариката. Мы сами по себе. Мы следуем чистому исламу. Мы следуем, Сунне Пророка, а остальное, лишнее, нам не надо». Это, конечно, вызывает обострение среди социума, потому что все новое воспринимается трудно, с непониманием. Отсюда вытекают и конфликты, тем более, учитывая импульсивных жителей. Но, хвала Всевышнему, в последнее время люди начали более мягко относиться друг к другу.
В Исламе есть понимание того, что никто не имеет права заставлять другого человека принимать тот или иной тарикат. Чтобы не вводить людей в смуту, не оживлять смуту, как говорят ученые, конечно, было бы лучше аккуратно относиться друг к другу, понимая, что и это возможно, и то возможно. У каждого есть свой путь, свой выбор. Ученые говорят, что смута спит, и будет проклят тот, кто ее оживил. Смуту оживить можно в любое время. Из этой смуты вытекает весь негатив, конфликты, убийства, разрыв родственных отношений. И конечно, лучше худой мир, чем война.
Становление ислама на Северном Кавказе было разным. В Дагестане он появился еще во время сподвижников Пророка. Около 40 сподвижников похоронены в Дербенте. Во время сподвижников было очень сложно проповедовать ислам. Сегодня это очень легко. С помощью современных технологий очень легко донести свои мысли или свой призыв. Если раньше обязанностью проповедника было отправляться в путь, то сегодня эта обязанность отсутствует. Ты можешь, сидя в России, проповедовать американским мусульманам или другим. С появлением интернета мир превратился в один социум.
В последнее время люди очень аккуратно, толерантно относятся друг к другу, несмотря на то, что придерживаются различных течений. Мы должны понимать, что у нас должно быть братство со всеми людьми, которые живут на земле. То, что мы люди – это одно, это человеческое братство. То, чего мы придерживаемся – это другое, братство по вере, по нации, по родственным связям, по соседям. Если сосед является человеком, ты должен с ним поддерживать добрососедские отношения. Когда он заболел, ты должен его навестить, как гласят предания.
Алексей Бритвин: Во все периоды развития государственно-религиозных отношений к деятельности религиозных организаций со стороны государства было особое внимание. Как Вы полагаете, какой должна быть система государственно-религиозных отношений для того, чтобы способствовать сохранению принципов сложившейся многовековой истории становления и развития Ислама, Священных книг и Писаний.
Магомед Харсиев: Если рассматривать республики России, в которых в большинстве проживают мусульмане, то мы понимаем, что Россия – это светское государство. И каждая республика – а их 11 на территории РФ – имеет свою конституцию. В Конституции РФ прописано, что государство является светским. Что означает светское государство? Это означает, что ни одна религия не может быть установлена в качестве государственной.
Если взять, например, конституцию Египта, то там написано, что Египет – это арабское государство, и официальная религия Египта – ислам. Если взять Ватикан, у него официальная религия – католичество. Главное в выстраивании государственно-конфессиональных отношений – создание благоприятных условий для жизни народа, с учетом конфессиональных особенностей. Должно учитываться мнение людей и их интересы. Необходимо, чтобы отношения выстраивались договорным путем, чтобы оказывалась поддержка.
Допустим, у нас есть проблема терроризма. В последнее время она актуальна практически во всем мире. Есть экстремизм – более узкое понятие, которое переходит в угрозу для жизни людей. В данном направлении мы должны работать сообща. В этом вопросе государство оказывает поддержку определенным религиозным организациям. Но в то же время государство не должно налагать на религиозные организации какие-то обязанности. Нужны такие договорные отношения, в рамках которых в случае необходимости могла быть оказана помощь.
У нас в республиках Северного Кавказа существует более 70соборных мечетей. Каждую неделю в них собираются тысячи людей. В летнее время их количество доходит до 10 000, когда люди сидят даже на улицах. Поэтому, как не обратиться к религиозным деятелям, чтобы они прочитали проповедь касательно сохранения жизни человека. Что говорит ислам о сохранении жизни человека? Что говорит ислам об обществе? Что говорит ислам о терроризме? И конечно, они сами заинтересованы в этом. И государство заинтересовано в этом. Здесь наши интересы соприкасаются. И здесь и государство, и религиозные организации просто обязаны помогать друг другу.
Но у простого народа складывается такое впечатление что, если какая-то организация имеет отношения с государством, значит имеют место быть различные интересы. Государственные органы занимаются мониторингом опасных ситуаций. Если наблюдается какая-то угроза, нужно работать на предупреждение. Руководство государства, понимая, что большинство жителей какого-то субъекта являются мусульманами или же христианами, обращается к авторитетным религиозным деятелям. Не все, конечно, в народе слушают религиозных деятелей, но выказывают к ним уважение.
Мне очень сильно импонирует то, как выстраиваются отношения в России, потому что создан Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. Он оказывает поддержку религиозным организациям в издании религиозных книг и исламским религиозным образовательным учреждениям. Создана целая исламская академия, которая начала выпускать магистрантов и докторантов – ученых, которые прекрасно понимают жизнь в России.
Любой человек, который приезжает к нам из арабских стран, не поймет суть жизни российских мусульман, пока он не будет у нас жить. Только российские мусульмане могут понять, как правильно выстраивать отношения с религиозной точки зрения. Давать ответы, сидя в Саудовской Аравии, очень легко, абсолютно не вдаваясь в суть жизни местных людей.
Одним из самых главных принципов является географическое положение народа: как выстраиваются отношения, как выстроен уклад жизни. В зависимости от этого дается фетва – религиозное заключение. Сегодня, хвала Всевышнему, очень правильно выстроены отношения с государством. Оказывается поддержка религиозным организациям, а религиозные организации оказывают поддержку в духовно-нравственном воспитании населения.
Алексей Бритвин: В чем может заключаться урегулирование этнополитических конфликтов в условиях использования религиозного фактора?
Магомед Харсиев: Религиозный фактор и межэтнические отношения играют очень высокую роль именно для республик Северного Кавказа. Когда человек что-то делает неправильно, ему говорят: «Что ты делаешь? Мы же мусульмане». – Тогда человек начинает задумываться, что он является мусульманином, он вспоминает, что есть загробный мир, что есть наказание за его проступки, что он должен держать ответ за все дела, которые здесь совершал, и что мы все смертны, рано или поздно мы должны уйти.
Когда возникают межтейповые или межэтнические конфликты, люди прощают друг другу. Когда подключаются религиозные деятели, они идут к людям, просят у них, чтобы они простили, основываясь на Священном Писании. Так как Всевышний Аллах говорит о проявлении милости к человеку и, даже, к животным.
Магас,2021

Мухаммад Загидбекович Магомедов
Доктор исламских наук, помощник муфтия Республики Дагестан
Алексей Бритвин: Уважаемый Мухаммад Загидбекович, благодарю Вас за возможность поговорить о роли ислама, формирующей духовное развитие личности и уважение к традиционным общественным нормам. Как Вы полагаете, какое место занимает нравственность в исламе?
Мухаммад Магомедов: Думаю, все мы знаем, что Ислам – одна из мировых религий, которая придерживается веры в единого Бога. Ислам – это вероучение, основанное на божественных законах. Практическое применение в обществе этих законов позволит человечеству обрести огромное благо.
Ислам был ниспослан Всевышним Аллахом посредством вахью (откровения) в Коране и пречистой Сунне к Посланнику Аллаха – Мухаммаду, мир ему и благословение, последнему из пророков. В Коране и сунне Пророка заключается основа Единобожия, в них говорится о выполнении религиозных обязанностей, о морали, взаимоотношениях между людьми, формировании нравственных качеств. Ислам – это образ жизни, который следует понимать и реализовывать на практике. Согласно этому религия Ислам имеет общее и частное определение.
К общему определению относится следующее:
Ислам – это свидетельство (шахада) о том, что нет Бога, Которому следует поклоняться, кроме Всевышнего Аллаха, и, что, Мухаммад является Посланником Аллаха; совершение пятикратной молитвы; соблюдение поста в месяц Рамадан; выплата закята; совершение хаджа (тем, у кого есть на это возможность).
Ислам – это вера (иман) в то нематериальное и невидимое, о чём нам рассказал Пророк Мухаммад – в существование Всевышнего Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его пророков, вера в Судный день, в Его предопределение и т.д. Ислам – это искреннее поклонение (ихсан) Всевышнему Творцу. Об этом говорится в хадисе ангела Джибриля: «Он попросил: «Расскажи мне об Ихсане». – Пророк сказал: «Это такое поклонение Аллаху, будто ты видишь Его, ведь даже если ты не видишь Его, воистину, Он видит тебя». Всё вышеперечисленное передано в хадисе от Умара ибн аль-Хаттаба (в сборниках хадисов аль-Бухари и Муслима).
К частному определению относится:
Ислам – правильное понимание и представление о сотворении Вселенной, сотворении человека и всего того, что его окружает.
Ислам – это смирение, покорность и следование Всевышнему Аллаху, Господу миров. Неотъемлемым условием этого является личный выбор, отсутствие принуждения. Такое следование показывает покорность и смирение человека перед Всевышним. Аллах в Коране сказал: «Сегодня Я усовершенствовал для вас вашу религию и полностью завершил для вас Мою милость, и доволен Я для вас религией Ислам» (5:3).
Ислам – это охватывающие все сферы жизни человека правила и законы, которые Пророку Мухаммаду было велено довести до людей.
Ислам – это запреты и предостережения, неисполнение которых влечёт за собой наказание, как в этом мире, так и в загробном.
Ислам в совокупности – это всё то, что было ниспослано Пророку Мухаммаду: предписания, связанные с вероубеждением, поклонением, отношениями между людьми, нравственными качествами, семейными отношениями, работой и т.д.
Отсюда мы видим, что под словом Ислам подразумевается значительно большее, чем соблюдение обрядов богослужения. Исходя из этого, религия Ислам – это не только выполнение религиозных обрядов, это образ жизни, охватывающий все её аспекты, это кодекс, свод правил и законов, направленных на улучшение жизни людей.
Всевышний Аллах в Коране говорит: «Мы ниспослали тебе писание, чтобы ты, [Пророк Мухаммад], разъяснил им то, в чём они разошлись во мнениях, а также как руководство к прямому пути и милость для верующих людей» (4:105).
Всевышний в Коране, обращаясь к Пророку Мухаммаду, сказал: «Призывай людей, о Мухаммад, на путь Господа твоего (к религии Аллаха) мудростью (Кораном) и добрым увещеванием. И веди спор с ними (неверующими, безбожниками) наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сбился с пути истины, и Он лучше знает тех, кто на правильном пути» (16: 125).
Целей и задач у Ислама много, но все они сводятся к спасению и защите людей от заблуждения, воспитанию нравственного общества, в котором отсутствует притеснение. Ислам установил и закрепил основы справедливости. Справедливое отношение и послужило основной причиной того, что большинство поспешивших ответить на призыв Посланника Аллаха пришли к поклонению Единому Господу миров, Всевышнему Аллаху. Другая цель связана с поклонением. Важно, чтобы верующий при поклонении не впадал в многобожие и приносил пользу обществу через соблюдение религиозных предписаний. Воистину, законы Всевышнего Аллаха правят людьми по принципу равенства и справедливости, не оставляя им возможности притеснять друг друга или господствовать без права на то.
Алексей Бритвин: В чем, на Ваш взгляд, заключается сущность исламской этики и морали?
Мухаммад Магомедов: Главные черты характера мусульманина – это благочестие и покорность Богу. Праведный мусульманин покорен Аллаху и благочестив с людьми. Праведность и благочестие – самое важное, что может быть в истинной и искренней вере. Основа благодетели и правильного поведения – это прочная связь со Всевышним Аллахом. Богобоязненный мусульманин всегда помнит о Всевышнем и о спросе в Судный день. Он ведёт себя благочестиво, его намерения искренние, преданные, и с самоотдачей.
Моральные принципы Ислама касаются всех аспектов жизни мусульманина, начиная с приветствия и заканчивая международными отношениями. Они универсальны. Мораль контролирует эгоистичные желания, тщеславие и вредные привычки. Мусульмане должны не только быть добродетельными, но и творить добрые дела искренне, от всего сердца. Они должны не только сторониться зла и греха, но и противостоять им. Другими словами, они должны не только быть морально чисты сами, но и заботиться о моральной чистоте всего общества.
Основой этому служат аяты священного Крана и сунна Посланника Аллаха. Всевышний в Коране говорит: «Мы ниспослали тебе Книгу, разъясняющую суть каждой вещи, как руководство к прямому пути и благой вестью для уверовавших» (16:89). Пророк Мухаммад личным примером показал, что такое благородный нрав. Он предостерегал от всего аморального и запретного, и побуждал к благородному и праведному. Моральные принципы Ислама – воспитывать высоконравственных людей, желающих ближнему своему лишь того, чего желают себе. Пророк Мухаммад говорил: «Я послан для усовершенствования благих нравов». Когда у Пророка спросили, какие рабы любимы Аллахом, он ответил: «Те, которые обладают высокой нравственностью».
Пророк Мухаммад возглавил и продолжил призыв Аллаха, который начали предыдущие пророки и посланники в том, что касается вопросов веры в единого Бога, веры в Судный день и потусторонний мир (ахират). Послание пророка Мухаммада было самым великим, наиболее полным и всеобъемлющим. Он призвал людей уверовать в то, что поклонения достоин только Аллах, и показал, как надлежит поклоняться Великому Господу, чтобы снискать Его довольство и любовь.
Он сообщил обо всём, что приносит людям благо, и предостерег их от всего, что несёт зло и вред. Он указал на прямой путь, следуя по которому, люди могли бы отличить истину ото лжи, найти решение всех проблем, очистить свои души, отличиться высокими нравственными качествами и получить неисчерпаемо щедрую награду Аллаха.
Алексей Бритвин: Что, на Ваш взгляд, составляет основу формирования и функционирования идеологических взглядов и представлений?
Мухаммад Магомедов: Основой для формирования идеологических взглядов является, как мы сказали выше, Коран и сунна Пророка Мухаммада, а также разъяснение и донесение их содержания до общества посредством учёных (алимов), начиная с эпохи сподвижников Пророка, и до наших дней.
Предпосылками становления и результатами развития правильных убеждений, на мой взгляд, являются:
1. Изменение интеллектуальной позиции мусульман в отношении идеологии западной цивилизации, противостоящей Исламу.
Всё более очевидной становится неспособность западной идеологии отвечать на нужды людей и обеспечивать им возможность быть одинаково равными.
2. Расширение деятельности в сфере правильного призыва.
Ранее призыв Ислама был ограничен в основном лекциями и проповедями, которые имамы читали с минбаров мечетей, а учителя читали в примечетских медресе для учеников той или иной местности. Такой метод призыва не мог охватить все слои населения – взрослых и детей, мужчин и женщин, простых рабочих и управляющих, торговцев и мастеров. Однако сегодня новые технологии дают возможность в прямом эфире через соцсети передавать проповеди из мечети, разъяснять правильное понимание принципов Ислама и соблюдение религиозных предписаний.
3. Открытие культурных исламских центров во многих странах мира.
Исламские культурные центры – это места, куда может прийти любой желающий независимо от конфессии. Там он может ознакомиться с предписаниями Ислама, послушать лекции, привести членов своей семьи, чтобы их обучили азам Ислама.
4. Организация культурных общественных центров, изучающих проблемы социума.
Создание клубов деловых людей, включающих в себя избранных членов общества – высоких профессионалов или представителей элиты, которые обсуждали бы проблемы мусульманского общества, внося предложения и методы их решения.
5. Изучение текстов Корана и высказываний Посланника Аллаха.
Это должно давать возможность играть этими текстами, сокращая или добавляя к ним что-то, искажённо толкуя или указывая несуществующие источники.
6. Умение объяснить призывающим цель религиозных предписаний.
Необходимо приложить усилия, чтобы люди восприняли разумом цели предписаний для всех жизненных ситуаций, чтобы они поняли и приняли то, что польза от следования призыву Пророка Мухаммада обращается к ним же. Воистину, религиозные предписания установлены по принципам равенства и справедливости, не оставляя людям возможности притеснять друг друга или господствовать над другими без права на то.
Алексей Бритвин: Как Вы полагаете, на чем должна быть основана система государственно-религиозных отношений?
Мухаммад Магомедов: Чтобы говорить о системе государственно-религиозных отношений, необходимо, для начала, раскрыть тесную взаимозависимость права и религии, проанализировав политико-правовую, социальную и историческую составляющие. Тогда мы, возможно, сумеем выявлять реальные проблемы во взаимоотношениях государства и религиозных объединений.
Всё решается путём диалога, необходимо чаще проводить беседы и обсуждать все проблемные точки соприкосновения, если такие имеются. В сущности, проблем никаких нет, и не было, и эти отношения всегда складывались без труда. Но всегда найдутся люди, которые будут препятствовать диалогу и вредить этому сотрудничеству. Наша задача – проявлять терпение и не вестись на провокации со стороны тех, кто не понимает и не ведает в этом ничего. Мы все – одно целое и не стремимся отделить и обособить себя. Надо чаще разговаривать друг с другом, чтобы это понять.
Алексей Бритвин: Какими на Ваш взгляд могли бы быть этнополитические и политико-правовые способы регулирования этно-религиозных противоречий и конфликтов?
Мухаммад Магомедов: Хочу рассказать Вам одну историю. Послушайте её и поймете, что мы живём этим принципом.
Один из великих суфиев Абу-Язид Бастами в юности как-то увидел одного старого человека, нёсшего на спине огромную вязанку хвороста. Он помог старику донести тяжёлую ношу до дома. Его спросили, почему он так сделал, ведь это был иудей. На что он ответил: «Я думал, это пророк Хизри, мир ему». То есть у него была такая чистая душа, что он думал о людях только хорошее, видел только положительные их качества.
В Исламе людей не разделяют по национальности, цвету кожи или месту рождения. Наша религия учит относиться равно и справедливо к старикам и детям, к верующим и неверующим. Урегулировать любой конфликт, инициированный верующим мусульманином, может помочь лишь твёрдое понимание религии. Ислам – религия мира, и ничему другому она не учит. При изучении любой религии нужно отрешиться от эмоций и увидеть призыв Всевышнего. Например, учёный-физик не может сказать, что такой-то закон физики ему нравится или не нравится. Это абсурд. То же самое касается религии. Необходимо изучать, учиться и обучать. Для этого есть всё необходимо, и требуется только желание изучить то, что представляет собой истинный Ислам, чему он учит и к чему призывает.
Махачкала, 2021

Гюльчохра Надировна Сеидова
Кандидат философских наук, заведующий отделением кафедры ЮНЕСКО
по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и
межрелигиозного диалога по Северному Кавказу факультета востоковедения филиала
Дагестанского государственного университета в г. Дербенте
Алексей Бритвин: Уважаемая Гюльчохра Надировна, благодарю Вас за возможность поговорить о роли ислама, формирующей уважение к традиционным общественным нормам и правосудию. Как Вы полагаете, какое место занимает нравственность в исламе?
Гюльчохра Сеидова: Ислам – одна из религий спасения, самая молодая и динамичная из мировых и монотеистических традиций. Ее цели и задачи следуют из ее роли: повести за собой как можно больше последователей по пути спасения. Нравственность в Исламе занимает очень значимое место. Соблюдение норм нравственного поведения теоретически представляет одну из главнейших обязанностей мусульманина. Предписан постоянный контроль за мыслями, словами, делами с целью следования дозволенному и отказа от запретного. Но все же, несмотря на все отступления и разлагающее воздействие на молодежь вируса западного нигилизма и псевдолиберальных ценностей, удается, хотя, и не без труда, сохранять устои и нормы традиционной культуры. Однако, они часто нарушаются подавляющим большинством населения. Те, кто живет где-то в мегаполисах, далеко от родных пенатов, вспоминают о традиционных устоях, лишь возвращаясь на побывку на малую Родину.
Алексей Бритвин: В чем, на Ваш взгляд, заключается сущность и понятие исламской этики и морали?
Гюльчохра Сеидова: В следовании пути, предписанном Кораном, как Священному писанию и сунне пророка, причем, не обращая внимание на разделения (на суннитов и шиитов). Венгерский востоковед И. Гольдциер не случайно обращал внимание на то обстоятельство, что шииты являются большими приверженцами следования назиданиям хадисам. В большинстве достоверных хадисов, называемых суннитами Сахих, и в Ахбаре (предании шиитских имамов) тексты (матн) одинаковы, различаются лишь цепи передатчиков (иснад). Для шиитов огромную значимость имеет еще «Нахдж-уль-Балага» (Сборник проповедей, фетв и назиданий имама Алиибн Абу Талиба).
Алексей Бритвин: Рассматривая Ислам, как систему знаний, что, на Ваш взгляд, составляет основу формирования идеологических представлений и ценностей?
Гюльчохра Сеидова: Основу формирования идеологии составляют вышеуказанные источники с учетом корректив, вносимых реальной жизнью. Я не могу говорить о всем северокавказском исламе, потому что занимаюсь шиитским исламом, а с суннитским соприкасаюсь опосредованно. В суннитской среде идет противостояние между так называемыми суфистами и салафитами. Они очень закрыты. Со мною лично все любезны, хотя не забывают, что я шиитка. Шииты все относятся к умеренным двенадцати имамам, придерживаются устоявшихся норм и традиций, особенно в месяц мухаррам.
Мы открыты к общению с православными и иудеями. Мероприятия в исторической Джума-мечети Дербента, посвященные дню рождения Пророка и членам его семейства (Ахль аль-Бейт), объединяют прихожан квартальных мечетей. Они не проходят без приглашения представителей других традиционных форм духовности. Коренные жители Дербента, населяющие историческую часть города, и на праздники в церковь ходят, хотя, конечно, в обрядах не участвуют, и освященной воды на Богоявление наберут, и Благодатный огонь встречают.
Стало совершенно привычным, что протоиерей Николай Михайлович Котельников, окормляющий паству в Дербенте уже 42 года, выступает вместе с главой шиитской общины (ахундом Джума-мечети) и раввином. Они дружат семьями, ходят на праздники друг к другу, поддерживают в минуты скорби и утрат. Для Дербента – это обычная картина, но так далеко не везде. Дербент – удостоен Почетного Диплома и Премии ЮНЕСКО за распространение идеалов толерантности и ненасилия. Однако, в целом, картина очень пестрая, даже по отдельно взятому Дагестану.
Алексей Бритвин: Как Вы полагаете, какой должна быть система государственно-религиозных отношений, чтобы минимизировать политизацию религиозной сферы.
Гюльчохра Сеидова: Отношения должны быть спокойными, деликатными, не допускающими явного вмешательства со стороны известных структур, не мешать, но и не пытаться активно «помогать». Надо идти параллельным курсом, но государство всегда должно показывать, что держит руку на пульсе и может вмешаться в любой момент, если возникнет необходимость. Учитывая особенности местного менталитета и темперамента, нужно ни в чем не показывать то, что может быть воспринято как слабость. Нужна твердая и разумная рука. Политизации не удастся избежать никогда. Нравится или не нравится, но придется принять как неизбежность. Это общая тенденция.
Алексей Бритвин: Какими на Ваш взгляд могли бы быть этнополитические и политико-правовые способы регулирования межрелигиозных и межэтнических отношений?
Гюльчохра Сеидова: Я вообще не очень доверяю способам урегулирования конфликтов в нашем регионе «сверху», начальственным окриком и пр. Наши народы за многие столетия совместного проживания выработали уникальную систему регулирования межэтнических и межрелигиозных отношений «снизу», на уровне кунаков, соседей, сослуживцев, старейшин. Куначество – один из инструментов.
Дербент, 2021